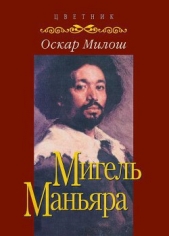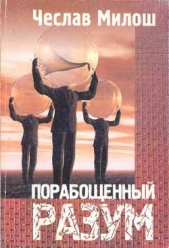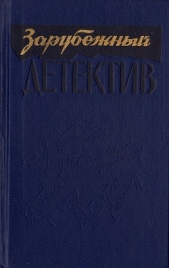Долина Иссы

Долина Иссы читать книгу онлайн
"Долина Иссы" - книга выдающегося польского поэта, переводчика и эссеиста Чеслава Милоша. Своё первое произведение, "Поэму о замороженном времени", он выпустил ещё в 1933 году, а последнее - в 2004, перед самой смертью. В 1980 году писатель получил Нобелевскую премию за то, что "с бесстрашным ясновидением показал незащищённость человека в мире, раздираемом конфликтами". Друг Милоша Иосиф Бродский называл его одним из самых великих поэтов XX века. "Долина Иссы" - это роман о добре и зле, о грехе и благодати, предопределении и свободе. Это потерянный рай детства на берегу вымышленной реки, это "поиски действительности, очищенной утекающим временем" (Ч. Милош). Его главный герой - alter ego автора - растущее существо, постоянно преодолевающее свои границы. Как заметил переводчик Никита Кузнецов, почти у всех персонажей книги есть реальные прототипы. Даже имение, где происходит действие, напоминает родовое поместье Милоша в селении Шетейне (лит. Шетеняй) на берегу речки Невяжи (Нявежис). Агнешка Косинска, литературный агент Милоша, рассказала, как ребёнком Чеслав убегал в сады и поля, за пределы поместья. Он знал латинские названия всех птиц, водившихся в этих краях. "Книга просто насыщена этим счастьем", - уверена она. После войны писатель решил не возвращаться на родину и остался в Париже. Тосковал... И работа над романом исцелила автора - он перестал чувствовать себя изгнанником. К тому же польско-французский писатель Станислав Винценз убедил его в том, что эмиграция - это не "непоправимый разрыв с родной почвой, традицией, языком; скорее, она помогает углубить с ними отношения", пишет Томас Венцлова в послесловии к русскому изданию романа. Никита Кузнецов признался, что начал переводить роман для себя - и "переводил книгу гораздо дольше, чем Милош её писал!" Если автору хватило года, то переводчику потребовалось четыре. Чтобы лучше представить место действия "Долины Иссы", Кузнецов даже поехал в Шетеняй и встретился со старожилами! Примечательно, что сам Милош тоже побывал в местах своего детства - и написал цикл стихов, вошедший в сборник "На берегу реки". Никита Кузнецов рассказал о трудностях перевода. Роман написан поэтической прозой, поэтому было важно сохранить интонацию, внутренний ритм текста. К тому же в книге немало литовских слов и реалий, нередко уже исчезнувших. А ещё важно было передать многослойность "Долины Иссы". На первый взгляд, это роман о взрослении мальчика Томаша Дильбина. Но если приглядеться, можно обнаружить фольклорные мотивы, затем - исторический, философский, богословский слои... Сам Милош называл книгу "богословским трактатом". Книга была переведена на русский язык спустя более полувека после издания. Роман, несомненно, войдёт в ряд бессмертных произведений, открывающих мир детства. Эти полотна в прозе создавали разные творцы, от Аксакова до Набокова. С выходом романа на русском языке в их плеяде засияет и Чеслав Милош.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И о том, что он смотрел на нее и раздумывал; мог убить, но предпочел сделать иначе. С тех пор они навсегда были связаны друг с другом.
Томаш не стрелял в уток, пролетавших над головой; один раз попробовал, но бесславно промазал.
Он любовался Ромуальдом, которому не мешало даже раскачивание лодки. Особенно его восхищало, как тот управлялся с чирками. Они летят вверх резко, аж воздух свистит, и при этом мельче крякв, — но Ромуальд ни разу не промахнулся, и под лавкой лежали уже три.
— Ну, как ваши дела? — спросил Ромуальд братьев. Виктор что-то лопотал, Дионизий смеялся над ним:
— Так что ж, пока он свое ружьище зарядит, утки ему хоть на голову садиться могут, — и это замечание на мгновение нарушило спокойствие Томаша — ведь он лишил Виктора его берданки.
Легкий ветерок морщил озеро, сверкавшее теперь дневной лазурью. Колокол в Алунте звонил к мессе. Кружа над косо торчавшими из воды жердями, трещали крачки. Под облаком, ближе к лесу тяжело взмахивал крыльями сарыч.
На обратном пути перевозчики советовали заехать на реку, вытекавшую из озера за замком, так что деревушка у острого конца озера оказывалась как бы зажатой между рекой и холмом с древней крепостью. Там, где начинался туннель камышей, они вспугнули несколько стремительно взлетевших птиц. Ромуальд подстрелил одну — чирка-свистунка, самый мелкий вид утки.
Гладкая вода, защищенная от вихрей и ненастья, — как в тех заливах в сердце Африки, где Томаш возводил свои недоступные человеческому глазу поселения. Черные сваи с бородами колыхаемых течением водорослей — когда-то давно здесь был мост. Дальше — избы прямо за полоской аира, вмятины и просветы там, где вытаскивали на берег челноки. В садах под яблонями сушились на кольях сети, лежали вентери.[81] Белые утки и гуси плескались у мостков для стирки белья. Деревня, увиденная с такой тихой реки, разрастается до размеров страны или государства — лишь тогда человек может разглядеть множество деталей, которые со стороны улицы не замечает или считает совершенно обычными.
Теперь впереди плыли Виктор и Дионизий. Они вспугнули крякв — правда, стрелять побоялись, не зная, не домашние ли это, но те взметнулись так неумело, как могут только подлетки, и они убили одну, выпалив из трех стволов. Это был конец охоты. Развернулись и подсчитали добычу. У Ромуальда и Томаша было двадцать три утки, семь из которых приходились на долю Томаша. У братьев — пятнадцать: не только кряквы, но и нырок, и один крохаль — серый, с рыжей головой и крючковатым кончиком клюва.
Глядя на замковую гору, они щурили глаза от солнца. Развалины приближались, подрагивая в сверкающей дымке. Жившая там когда-то языческая жрица, не шедшая из головы ночью, навсегда терялась среди страхов и сказок Томаш оборачивался и придерживал за ошейник Заграя, который вертелся и ставил лапы на борт. Приклад ружья упирался в лавку, ствол покоился на груди. Теперь он был настоящим охотником. Но там, на другом берегу, осталась его утка. Что она делает теперь? Чистит клювом перья, с кряканьем хлопает крыльями и благодарит за радость после миновавшей опасности. Кого благодарит? Постановил ли Бог оставить ее в живых? Если да, значит, это Он подсказал Томашу не стрелять. Но почему, в таком случае, ему казалось, что все зависит только от его воли?
XLIX
По небу, над землей, где все живое умирает, ходит Сауле-Солнце[82] в своем сверкающем платье. Народы, видящие в нем мужские черты, могут вызывать лишь недоумение. Это широкое лицо — лицо матери мира. Время ее — не наше время, а из дел ее мы знаем только те, что способен постичь ум, охваченный страхом одиночества. Неизменная в своем появлении и исчезновении — но ведь у Солнца тоже есть своя история. Как поется в старой песне, давным — давно, в первую весну (а до нее, наверное, не было ничего, кроме хаоса) вышло оно замуж за Месяца. Когда рано утром Солнце встало, супруга уже не было. Одиноко бродил он по небу, пока не влюбился в Денницу. Увидев это, разгневался бог-громовержец Перкунас и рассек Месяц мечом надвое.
Возможно, наказание было справедливым, ибо Денница — родная дочь Солнца. Гнев Перкунаса, обратившийся затем против нее, можно, пожалуй, объяснить памятью о ее не слишком решительном отпоре ухаживаниям отчима. Песни, сложенные людьми, сохранившими память о тех далеких событиях, умалчивают о причинах. Можно лишь с уверенностью сказать, что когда Денница играла свадьбу, Перкунас подъехал к воротам и разбил в щепки зеленый дуб. Кровь хлынула из дуба и забрызгала ее платье и девичий венок. Плакала дочь Солнца и спрашивала у матери: «Где мне, родная мама, выстирать платье, где смыть эту кровь?» — «Иди, милая дочка, иди к озеру, что сбирает воды девяти рек». — «Где мне, мама, высушить платье?» — спрашивала Денница. «В саду, моя дочка, где цветут девять роз». И последний встревоженный вопрос: «Когда ж в этом платье я пойду под венец?» — «В тот день, моя дочка, когда засветят девять солнц».
Мы так мало знаем о нравах и заботах ходящих над нами небожителей. День свадьбы все еще не настал, хотя, возможно, каждая прошедшая тысяча лет была не более чем мгновением. Кое-какие вести принесла нам девушка, потерявшая овцу. Было это в ту эпоху, когда смертные легче находили общий язык с небесными божествами. «Пошла я к Деннице, — поет девушка, — а она мне в ответ: „Я должна с утра Солнцу огонь развести“ (отсюда вывод, что незамужняя Денница по-прежнему живет в доме матери). Пошла я к Вечернице, — рассказывает девушка о своих напрасных поисках, — а та говорит: „Я должна вечером Солнцу постель постелить“». И Месяц отказался помочь: «Я мечом рассечен. Видишь, у меня печальный лик». (Лишь Солнце подсказало, что овечка забрела куда-то далеко, в полярные страны — может, даже на север Финляндии.)
А ксендз Монкевич — не планета ли он? Наверное, да — для бабочки, которая вьется над клумбами и с настурцией и резедой. Лысина блестит, и кто знает, какие зрительные наслаждения доставляет бабочке ее верхушка, преломленная во множестве бабочкиных глаз. Всего несколько дней жизни — но нельзя сказать точно, не вознаграждается ли она за эту мимолетность недоступным нам экстазом форм и цветов.
Ксендз Монкевич — поверхность, а под ней работа планетарных машин, кровообращение, сокращение миллиарда нервов. Есть, конечно, люди, для которых он значит не больше, чем букашка, которые смеялись бы при виде его кальсон и того, что когда-то напоминало халат (дома он бережет сутану). Он раскачивается из стороны в сторону, расхаживая с бревиарием, — а мог бы сейчас махать косой, если б его мать не решила уберечь хоть одного сына от крестьянской доли. Благодаря обстоятельствам, более сильным, чем его желание или нежелание, он стал верным служителем Церкви. Но ведь это он ежедневно исполняет обязанности, состоящие в том, чтобы призывать каждого человека ценить себя больше, чем гору, планету, вселенную. Зачатые от хотения плоти младенцы слюнявятся и пищат, когда он дает им щепотку соли в знак того, что их ждет полная горестей жизнь. Детей Природы он делает жилищами Святого Духа, запечатлевая в них Слово водой крещения. С этого мгновения они вырваны из-под власти неизменного порядка вещей и имеют право узреть противоречие между собой и Природой. А потом, когда дом тела распадается, а движения сердца замирают, ксендз Монкевич или кто-нибудь другой, наделенный той же властью, очищает их от грехов, чертя елеем кресты на членах, которые вскоре обратятся в прах — контракт материи и дыхания расторгается.
Но ведь не все же время он мысленно возвращается к этим обязанностям? Отнюдь. Сейчас, например, он согнал бабочку с травинки, чтобы посмотреть, как она полетит, наблюдает за вьющейся над чашечкой белой лилии пчелой и, придерживая пальцем страницу, говорит: «Мерзавцы». Это касается последнего крещения. Слишком мало заплатили. Отговаривались, что у них ничего нет, но могли бы дать больше. Его берет злость, что он размяк и спустил цену.