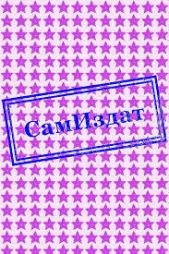И всякий, кто встретится со мной...
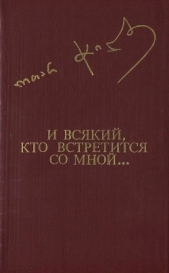
И всякий, кто встретится со мной... читать книгу онлайн
Отар Чиладзе - известный грузинский писатель, поэт и прозаик. Творчеству его присуще пристальное внимание к психологии человека, к внутреннему его миру, к истории своего народа, особенно в переломные, драматические периоды ее развития. В настоящую книгу вошел социально-нравственный роман из прошлого Грузии "И всякий, кто встретится со мной…" (1976), удостоенный Государственной премии Груз.ССР им.Руставели.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Будь тут мои ребята, — обратился к ней майор, — они б с этого вашего борчалинца шомполами шкуру спустили! Знал бы, как драться…
— Нет! — почти крикнула вдруг Анна.
— То есть как это «нет»? — удивился майор.
— Нет… — уже спокойно, обычным голосом повторила Анна. — Нам следует терпеть. И вы тоже ссориться с ним не должны, если вправду Георгия любите…
«Нет так нет!» — подумал майор, но ничего не сказал и стал молча рассматривать висящую на стене черную черкеску. Спокойствие и достоинство Анны раздражали его с самого начала. Она сидела с таким видом, словно не то что бить ее, но и просто сказать ей что-нибудь непочтительное никто никогда не посмел бы, словно перед сном она ничем уж другим, кроме молитв, и не занималась. Можно было подумать, что майору она гораздо нужнее, чем он ей. А ведь, направляясь сюда, он был убежден, что пострадавшие мать с сыном сочтут его визит великим для себя счастьем, готовы будут руки ему целовать, прыгать вокруг него от радости! Ибо человеку, попавшему в беду, нужнее всего сочувствие, пусть даже мнимое, неискреннее, высказываемое просто из вежливости, — и это для него благо, и размышлять, вправду ли ты так уж переживаешь его несчастье, ему отнюдь не пристало: он обязан довольствоваться тем, что ты стоишь рядом с ним, быть благодарным и за это — ведь остаться в одиночестве человек страшится больше самой беды. Майор считал, что творит добро, оказывает милость, — она ж как будто и не обращала внимания на такого короля, лично пожаловавшего к ней для выражения сочувствия и дружбы. Майор знал, что благодаря блестящим эполетам урукийцы его уважают и даже побаиваются, — поэтому-то он и во время работы не оставлял своего мундира в палатке, а развешивал его на дереве для всеобщего обозрения, словно документ, не только подтверждающий исключительные полномочия своего владельца, не только гарантирующий неприкосновенность его усадьбы, но и облекающий неким ослепительным ореолом его самого — даже когда голый по пояс, с ладонями, стертыми в кровь, как у самого обыкновенного крестьянина, он расчищал двор от сорняков, битой черепицы, гнилых досок Не лучше матери встретил его и щенок — тот вообще надулся, словно капризная любовница; и это тоже раздражало майора! Он не мог понять, чем они, в конце концов, так недовольны — тем ли, что он пьет их паршивую водку, или тем, что ему вообще открыли Дверь, впустили его в свое логово, пропитанное потом борчалинца и из-за висевшей на стене черной черкески казавшееся еще более темным и угрюмым. А может, его обвиняли в том, что он не дал борчалинцу убить себя из-за них вчера ночью? Да нет — не такие ж они, должно быть, все-таки наглые…
Вид черной, чуть-чуть обтрепанной по краям черкески напомнил майору пугало в винограднике, сверху донизу загаженное наевшимися винограду воробьями и превратившееся для них в насест, в место отдыха, хотя балда и скупердяй виноградарь установил его именно для их устрашения. То же самое случилось и с черкеской. Она была такой огромной, что занимала всю стену; но в брошенный ее владельцем виноградник повадились воробьи — или, верней, лисы; и они не обращали никакого внимания на черкеску, вывешенную, чтоб отпугивать их, черкеску, некогда облекавшую плечи и грудь рослого мужчины, а ныне растекшуюся, размазавшуюся по стене, как брызги дегтя, бессильную и пустую, как угроза мертвеца! Главным в этом доме был борчалинец, а не черкеска, прибитая к стене, как чучело какого-то огромного, но безобидного допотопного существа, с самого начала обреченного природой на вымирание. Черкеска майора не пугала — в этом доме он боялся только живого соперника, человека, бывшего тут хозяином теперь; ему-то майор и хотел заглянуть в душу, его-то истинные намерения он и стремился разгадать с помощью избитых матери и сына. Поэтому-то он и не помедлил, не дал чужой боли и озлоблению остыть — он знал, что боль и озлобление делают людей откровеннее, искренней, чем они станут потом, когда боль утихнет, а озлобление уляжется. Он надеялся, что тяжелая рука борчалинца развяжет пострадавшим языки, заставит их забыть осторожность; это и позволило б ему запросто, без нажима и особенных расспросов выяснить, что же все-таки тот собирается делать; решил ли он бросить мать с сыном и поэтому вздул их, или сделал он это, напротив, лишь из желания удержать их навсегда? Вот что мучило майора, вот что ему надо было разузнать — они же молчали и глядели на него так, словно именно он натравил, науськал на них их мучителя…
— Одну молитву, как говорится, и священник переврать может, — начал майор, с улыбкой поглядывая на Анну, — но войти в храм ему за это никто не запретит. Семейные ссоры, друг мой Георга, лишь дураки всерьез принимают! Вот был, скажем, у нас в казарме один поручик-пьянчуга… Жена била его каждую ночь; но попробуй кто назови его пьяницей — она б тому глаза выцарапала!
Анна молчала.
— Мама его не любит! — сказал Георга с такой детской непосредственностью и горячностью, словно матери не было в комнате и ее несправедливо обвинили в чем-то за глаза. — Мы его боимся!
— Георга, братец, неужели ты никогда не слыхал: страх-то и рождает любовь… — усмехнулся майор.
— Мама его не любит! — упрямо повторил Георга. Голос мальчика задрожал, к горлу подступили слезы — он понял, что майор ему не верит.
(Хотя какое значение могло иметь для их дружбы, любила его мать кого-то или не любила? Разве их дружба от этого зависела?)
— Бога ради… как до сих пор выдерживали, так и дальше выдержим. Такая уж, значит, наша участь… — сказала Анна.
«Слыхал?» — молча кивнул майор Георге, и тот удивленно взглянул на мать.
— Дело ваше! — сказал майор. В его голосе зазвучало раздражение, но он еще сдерживался. — Не так уж вы, стало быть, недовольны этой своей участью, раз избавиться от нее не желаете! Ну что ж… За здоровье вашего борчалинца! — И он высоко поднял сбою рюмку. — Он-то свое дело знает. А ты его убить собирался… — взглянул он на Георгу. — Он бы тебе задал перцу! И за участь вашу выпьем… — с язвительной усмешкой обратился он к Анне.
Это тоже сбило Георгу с толку — теперь он с удивлением взглянул на майора. Либо все трое были сейчас правы, либо лгали все трое — лгали не с тем, чтобы провести друг друга, а просто потому, что друг другу были еще чужими, втроем собрались впервые, и каждый говорил свою правду — свою, а не общую для всех троих!
По лицу Анны могло показаться, что она не слышала слов майора или не понимала, о чем он говорит. Скорей всего, она не слушала его вообще; словно младенца, уложив на колени свою перевязанную шалью руку, она в эту минуту думала лишь о своем мертвом муже, мысленно рассказывала мертвому мужу о событиях минувшей ночи. Этого майор не знал и знать не мог, и молчание Анны выводило его из себя — она или ни в грош его не ставила, или всерьез принимала его колкости за комплименты. Впрочем, это было неудивительно: ведь он считал ее самой заурядной шлюхой! Спишь ли ты с одним мужчиной или с целым городом, — когда в этих делах замешана корысть, ты шлюха, ибо торгуешь своим телом; а один у тебя покупатель или тысяча и платят они тебе деньгами или топленым маслом, это совершенно несущественно.
— И его жаль… Он ведь сам не понимает, какое горе нам приносит, — внезапно сказала Анна.
— Дело ваше! — крикнул майор. — Дело ваше! Но обиды ребенка, сироты тем более, я не прощу никому… ни постороннему, ни родной матери!
Анна лишь молча взглянула на майора, словно его окрик вернул ее на землю и она впервые его заметила. Печальный, беззлобный взгляд женщины невольно смутил майора — ему уж и самому показались неуместными собственные озлобление и несдержанность. В конце концов, он был гостем, и гостем незваным; нравилось ему тут или нет, все равно следовало быть сдержанней. Ни его помощи, ни его советов никто ведь и не просил — какое же у него было право злиться? Этим он, помимо всего прочего, лишь выдавал свои замыслы и тем самым тормозил их осуществление. Ему нужно было многое еще выяснить, установить, тысячу раз отмерить и взвесить; а он до сих пор не мог понять и самого простого: любит Анна борчалинца или нет? Ее щенок, правда, утверждал, что нет, но полагаться на это не приходилось — майору казалось маловероятным, что Анна так уж откровенна с десятилетним сопляком. Вполне возможно, что своим «не люблю, боюсь…» она обманывала и его — для того, чтоб, не теряя любовника, выглядеть в то же время в глазах сына невинной мученицей, достойной жалости.