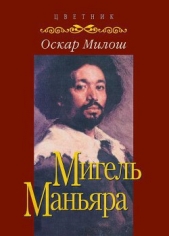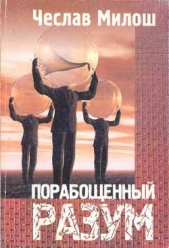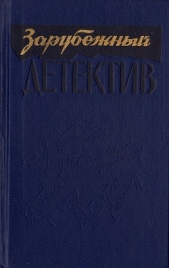Долина Иссы

Долина Иссы читать книгу онлайн
"Долина Иссы" - книга выдающегося польского поэта, переводчика и эссеиста Чеслава Милоша. Своё первое произведение, "Поэму о замороженном времени", он выпустил ещё в 1933 году, а последнее - в 2004, перед самой смертью. В 1980 году писатель получил Нобелевскую премию за то, что "с бесстрашным ясновидением показал незащищённость человека в мире, раздираемом конфликтами". Друг Милоша Иосиф Бродский называл его одним из самых великих поэтов XX века. "Долина Иссы" - это роман о добре и зле, о грехе и благодати, предопределении и свободе. Это потерянный рай детства на берегу вымышленной реки, это "поиски действительности, очищенной утекающим временем" (Ч. Милош). Его главный герой - alter ego автора - растущее существо, постоянно преодолевающее свои границы. Как заметил переводчик Никита Кузнецов, почти у всех персонажей книги есть реальные прототипы. Даже имение, где происходит действие, напоминает родовое поместье Милоша в селении Шетейне (лит. Шетеняй) на берегу речки Невяжи (Нявежис). Агнешка Косинска, литературный агент Милоша, рассказала, как ребёнком Чеслав убегал в сады и поля, за пределы поместья. Он знал латинские названия всех птиц, водившихся в этих краях. "Книга просто насыщена этим счастьем", - уверена она. После войны писатель решил не возвращаться на родину и остался в Париже. Тосковал... И работа над романом исцелила автора - он перестал чувствовать себя изгнанником. К тому же польско-французский писатель Станислав Винценз убедил его в том, что эмиграция - это не "непоправимый разрыв с родной почвой, традицией, языком; скорее, она помогает углубить с ними отношения", пишет Томас Венцлова в послесловии к русскому изданию романа. Никита Кузнецов признался, что начал переводить роман для себя - и "переводил книгу гораздо дольше, чем Милош её писал!" Если автору хватило года, то переводчику потребовалось четыре. Чтобы лучше представить место действия "Долины Иссы", Кузнецов даже поехал в Шетеняй и встретился со старожилами! Примечательно, что сам Милош тоже побывал в местах своего детства - и написал цикл стихов, вошедший в сборник "На берегу реки". Никита Кузнецов рассказал о трудностях перевода. Роман написан поэтической прозой, поэтому было важно сохранить интонацию, внутренний ритм текста. К тому же в книге немало литовских слов и реалий, нередко уже исчезнувших. А ещё важно было передать многослойность "Долины Иссы". На первый взгляд, это роман о взрослении мальчика Томаша Дильбина. Но если приглядеться, можно обнаружить фольклорные мотивы, затем - исторический, философский, богословский слои... Сам Милош называл книгу "богословским трактатом". Книга была переведена на русский язык спустя более полувека после издания. Роман, несомненно, войдёт в ряд бессмертных произведений, открывающих мир детства. Эти полотна в прозе создавали разные творцы, от Аксакова до Набокова. С выходом романа на русском языке в их плеяде засияет и Чеслав Милош.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так, в общих чертах, обстояли дела. Лучший сорт пива и душистая настойка на девяти лесных травах появлялись на столе всякий раз, когда в избу Бальтазара ненадолго заглядывала Хелена Юхневич, но он пристально следил за ней, как всегда скаля зубы в добродушной улыбке. Разве он ее не знал? Сладенько, будто невзначай, заглядывала она то в коровник, то в свирон. С такой противно иметь дело.
Некоторые считают, что черт — не более чем галлюцинация, следствие внутренних страданий. Если они предпочитают так думать, то мир тем более должен казаться им малопонятным — ведь ни у каких других живых существ, кроме человека, таких галлюцинаций не бывает. Допустим, маленькое созданьице, которое иногда разгуливало вприпрыжку вдоль следов пролитого пива, размазанного по столу пальцем Бальтазара, своим существованием было обязано пьянству. Но это ровным счетом ничего не объясняет. Случались дни, когда к Бальтазару возвращалась былая радость, он посвистывал за плугом — и вдруг внутри толчок, предвещающий приближение ужаса. Всего несколько шагов за предначертанный ему круг — и вот уже неизвестная, сторонняя сила загоняет его обратно. Именно сторонняя. Свои страдания он ощущал отнюдь не как часть самого себя — сам, в глубине души, он наверняка по-прежнему оставался чистой радостью. То, что на него нападало, окружало извне. Ужас охватывал его потому, что тонкость и острота суждений, которые он высказывал в состоянии отчаянья, не вытекали из его возможностей. Его поражала сверхчеловеческая ясность видения. Собственная нелепость Бальтазара тоже была частью этих рассуждений — на ней и играл мучитель.
— Ну так что же, Бальтазар, — говорил он. — Жизнь одна. Миллионы людей занимаются миллионами разных дел, а у тебя — Сурконт, Хелена Юхневич, земля, тот, хм, случай с ружьем. Мелко все это. И почему это дано именно тебе? Ты мог бы упасть, как звезда, — тут или там. Тебя угораздило здесь. И уже никогда не родиться тебе заново.
— Раввин говорил правду.
— Правду? Однако ты кусаешь кулаки и оттого, что Юхневичиха тебя выгонит, и от злости на самого себя, что кусаешь кулаки. Вроде бы и соглашаешься жить своей судьбой, и не соглашаешься. Не спорю, раввин угадал — он опытный. Но не так уж трудно это угадать. Бальтазар грязный жалеет, что всё это обрушилось на Бальтазара чистого, которого нет. Хорош этот чистый Бальтазар. Только нет его.
Пальцы впивались в стол — чтобы ударить, разбить, чтобы превратиться в огонь или камень.
— Ну, перевернешь ты стол — и что дальше? Я-то знаю, ты не этого хочешь, а хочешь спросить. Спрашивай, легче будет. Вот вливаешь ты в себя водку, но думать-то перестаешь только на секунду, пока горло жжет. Хочешь знать?
Бальтазар оседал, широко разложив локти на досках столешницы, — весь во власти зверька, слабого и хищного.
— Вот если человек что-то сделал, так это оттого, что иначе он не мог? Это тебя мучит, правда? Я стал таким, как сейчас, потому что в свое время поступил так-то и так-то. Но почему я так поступил? Не потому ли, что я изначально такой, какой есть? Так?
Под обращенным к нему из пространства взглядом, принимающим разные личины, но неизменным, он соглашался.
— Тебе жалко, что семя плохое? Что из семени крапивы не вырастет пшеница?
— Ясное дело.
Покажу тебе на примере. Вот стоит дуб. Что ты думаешь, глядя на него? Что он должен там стоять?
— Должен.
— Но дикая свинья могла выкопать желудь и съесть. И думал бы ты тогда, что там должен быть дуб?
Бальтазар накручивал на палец свисающие патлы.
— Нет. А почему нет? Потому что все случившееся выглядит так, будто должно было случиться, будто иначе и быть не могло. Так уж устроен человек. Ты потом тоже будешь уверен, что не мог поехать в город и рассказать, кому надо, что Сурконт выдает лес за луга и пытается смошенничать.
— Я не буду на него доносить.
— Хороший Бальтазар, любит Сурконта. Нет, ты боишься, что твой донос не поможет. Он платит чиновникам, узнает, и тогда уже не будет защищать от дочери. А выиграть тоже боишься. Присоединят к государственному лесу, может, и возьмут лесником, но спросят, зачем тебе столько земли. Не лукавь. От судьбы не уйдешь, хоть ты ее прокляни.
— Если я никогда не знаю, зачем. Сватов послал, зачем — уже не помню. И этот русский тогда — ведь мог бы только напугать. Не помню.
— А!
— А-а-а!
Никогда неизвестно, как быть с криком, звучащим внутри нас. Высшая несправедливость в том и заключается, что мы отрываем листок календаря, натягиваем сапоги, щупаем мускулы на руке и живем сегодняшним днем. И вместе с тем изнутри нас терзает память о действиях, причин которых мы не помним. Либо эти действия исходят от нас, от нашей сущности — той же, что сегодня, — и тогда носить ее противно, собственная кожа воняет ею. Либо их совершил кто-то другой, с закрытым лицом, и тогда еще хуже, ибо непонятно: почему, из- за какого проклятья нельзя от них избавиться?
Бальтазар догадывался, что у Сурконта всё получится. Он выбрал бездействие — от усталости и от недоверия к себе, к своей природе или ко всем тем, кто под нас подделывается. Когда ничего не делаешь, то и жалеть потом не о чем. Впрочем, раз уж он запутался, пусть теперь всё путается окончательно. Некоторое время он бил жену, но потом перестал и замкнулся в себе — тяжелый и молчаливый. Возможно, разумно было бы бросить дом и, пока не поздно, подыскать себе реформенный выселок — но опять начинать все сначала, жить в шалаше из валежника, ставить себе жилище? И зачем? Пусть всё остается хотя бы так, как сейчас. Раздел имения еще не означал, что Юхневичи собираются жить в лесу; а случись что с Сурконтом, всё будет решать она, — это он и так знал.
У него родился третий ребенок, дочь. Когда бабка из Погир принесла ее показать, он подумал, что не помнит, как это было, в какую ночь, и было ли от этого удовольствие. Она была похожа на маленького котенка и на Бальтазара. Он устроил шумные крестины и прямо на них бросился на кого-то с ножом, но это обратили в смех. А узнал он об этом, лишь проснувшись на следующий день.
XL
Звенят колокольчики, лошадь фыркает, бесшумно скользят полозья, а на белом снегу по обе стороны дороги — следы. Искривленный квадрат — это заяц. Если квадрат удлиняется, значит, заяц бежал быстро. Ровной вереницей, лапка за лапкой, тянется след лисы — через холм, где снег искрится на солнце, к синевато-фиолетовому березняку. Птицы оставляют три сходящихся черточки, иногда полоску хвоста или едва различимые мазки от перьев на концах крыльев.
У тетки Хелены на носу мелкие прожилки от мороза, а сам выдающийся вперед нос темнее, чем порозовевшее лицо над воротником кожушка. Кожух ее утратил свой былой цвет и стал коричневым, но у Томаша он совсем новый, яркостью напоминающий летний мех белки, и потому (а также из-за мягкости) он любит тереться щекой о рукав. На глаза ему съезжает слишком большая дедушкина шапка-ушанка, и он терпеливо сдвигает ее на затылок.
У Хелены круглая шапка из серого барашка.
В Боркунах дорожки у дома желтые от вытоптанного снега, кое-где видны шероховатые брызги воды, схваченные морозом внезапно, пока не успели растечься, и кучки конского навоза, среди которых прыгают воробьи. Мелькает Барбарка в длинных шерстяных чулках и деревянных клумпах.[72] Угощение: они втроем сидят за столом, но Томашу это быстро наскучивает; он встает и рассматривает висящее на стене охотничье снаряжение. Его раздражало взаимопонимание между Ромуальдом и Хеленой: тогда открывался другой, худший Ромуальд — сообщник взрослых, сыпавший шуточками, которые вызывали у тетки отрывистое хихиканье. Что еще заставляло его бежать из-за стола при первой же возможности, так это снование Барбарки, неизвестно почему озлобленной и кусавшей свои полные губы. А уж если он оставался за столом, то задумывался так, что Хеленино «ешь!» вырывало его словно из сна. Однако она не могла угадать его непристойных мыслей. Усмешки и приглашения закусить или выпить казались ему противоестественными. Почему все ломают комедию, кривляются, обезьянничают, если на самом деле они совсем не такие? Никто не показывает друг другу настоящего себя. Собираясь вместе, они меняются. Например, Ромуальд, такой, как на самом деле, говорит: «Надо посрать», — приседает под деревом, а потом подтирается листиком, вовсе не прячась, — а тут эти любезности и целование ручек Хелена тоже раскорячивается, и из промежности у нее льется струйка, но сейчас она ведет себя так, будто у нее там ничего нет, будто она оставила эту часть тела дома — такая благородная. Даже Барбарка. Почему «даже»? Потому что как же Барбарка — такая красавица, что аж оторопь берет, — приседает со своим румянцем, и как оно вытекает из ее волосатости? Глядя на нее и представляя себе это, он содрогался: от ее гладкого лба и темно-синих молний во взгляде до того самого вроде не пять верст? И ведь каждый знает, что все это делают; отчего же они ведут себя так, словно не знают? Вообще говоря, все условности, связанные с визитами, когда он должен был соблюдать их скучные правила вежливости, вызывали в нем подобное чувство противоречия, но никогда до такой степени, как этой зимой в Боркунах. Как бы было здорово, если бы они разделись догола и уселись на корточках друг против друга, справляя каждый свою нужду. Неужели и тогда они несли бы вздор, слишком глупый для каждого из них в отдельности? Нет уж, тогда их точно рассмешил бы собственный вид. К неприличному удовольствию, которое он испытывал, представляя себе такую компанию, примешивалось желание сорвать с них маски, побороть их манерность. Он дал себе клятву никогда не быть таким, как они. Однако его протест был обращен прежде всего против Хелены, заражавшей пана Ромуальда и принуждавшей его к кривлянию.