Иван-чай: Роман-дилогия. Ухтинская прорва
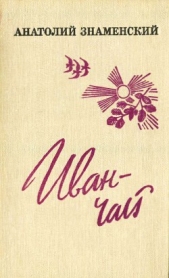
Иван-чай: Роман-дилогия. Ухтинская прорва читать книгу онлайн
Романы краснодарского писателя Анатолия Знаменского «Ухтинская прорва» и «Иван-чай» представляют собой дилогию посвященную истории освоения нефтяных богатств нашего Севера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Гляди-ка, Двина! — покачиваясь на мягкой сенной подстилке, проговорил Запорожцев. Вдыхая весеннюю речную свежесть, он испытывал прилив какого-то особого чувства, свойственного русскому человеку, когда доведется нежданно-негаданно окинуть одним взглядом захватывающий простор большой реки. — Двина! — повторил он, не отрывая глаз от переполненных разливом берегов. — А хороша река, Федор! — Потом задумался и добавил: — Так вот и реки, как люди. Погляди: ну чем же не река? А вот нет ей такого почета, как, скажем, Волге. Никто о ней сроду не сказал «матушка», «кормилица»…
— Несправедливость судьбы. Все то же… — усмехнулся Сорокин.
При этих словах возница сдвинул на затылок свою старую солдатскую папаху и с живостью обернулся к седокам:
— Я так смекаю: почет да любовь — они не за одну красоту, слышь. Стало быть, какая река больше напоит народа, той и почету больше. Из Волги вся Россия пьет. А кои людишки на Двине аль по-над Вычегдой размножаются, тем, надо полагать, и Вычегда родимая мать!
Телега покатилась под гору. Туго натягивая вожжи и падая назад, в телегу, возница развернул подводу у дощатого обшарпанного навеса, именуемого пристанью.
Там царила суматоха. На дебаркадер, приткнувшийся к набережной из двойного бревенчатого заборника, лезли со всех сторон мужики с укладками, бабы с узлами, пьяные купцы и приказчики с возами товара. На самом въезде раздавили бочку с дегтем. Воняло скипидаром, мокрой доской, плохо просоленной рыбой, овчинами. Ревела толпа, шумел ветер, по реке бежали белые гребешки, вспыхивая под солнцем неуютным, холодным огнем.
— Ого! Прет народец! — заметил Сорокин, чувствуя, как озабоченность в душе начинает уступать место азартному чувству бойца, стремящегося в общую свалку. — Куда это они?
_____ О бездна тайны! О тайна бездны! — вскричал повеселевший трагик, отдавая последнюю дань городу и театру, и с царской щедростью швырнул в колени мужика серебряный полтинник. — Гип-по-потамия!..
— На счастье, — добавил Сорокин.
Возница с ухмылкой посторонился от странного пассажира, торопливо завернул в тряпицу полученную монету, хлестнул низкорослую лошаденку так сильно, что она вскинула задом и во всю мочь понеслась в гору, подальше от берега…
Старенький пароходик по имени «Надежда» проездом из Вологды брал в Устюге хлебный груз. Сорокин и Запо рожцев купили тесную каюту во втором классе и приготовились к отчалке, но пароход, закончивший погрузку хлеба, задержался до вечера. Друзья провели последние часы на палубе. Наступала пора светлых ночей, и солнце сади лось в десятом часу. Серенький городишко на закате вдруг запылал десятками куполов и белыми шпилями колоколен, словно новоявленный Китеж, и Запорожцев долго стоял у палубных перил в немом созерцании этой неожиданной красоты. Поверилось вдруг, что под сенью подобного великолепия и вправду мог жить святой Прокопий, отвративший некогда падение каменного дождя на град Устюг…
Сумерки наконец смешали очертания, колокольни потухли, и сказка исчезла. Стало свежо, и верхняя палуба опустела.
Когда в каютах засветились огни, на берегу возникло странное движение. По трапам затопали окованные, казенные каблуки, послышался озабоченный грубый гомон, и вот палуба внизу огласилась властными окриками:
— Сто-о-о-рони-и-ись!
— А ну, в сторону! Я говорю, сдай назад, борода! Наз-зад!
— Чего такое? Пошто котомку шурудишь?..
— Не рас-сужда-ать!
Григорий открыл квадратное оконце. Сорокин глядел наружу через его плечо:
— Что там стряслось?
— Подожди…
Крики, брань, деловитые пинки — половина нижней палубы очищена. Потревоженный пассажир третьего класса жмется к самому борту, на новом, согретом месте бросает под голову котомку и, поджав под себя босые ноги, пытается заново уснуть сном праведника, а мимо торопливо, вразброд стукотят чьи-то подошвы.
— Под-тя-ни-и-сь!
Конвоир орет с каким-то тайным восторгом, словно молодой петух, продравший в неположенное время глаза:
— Передний! Короче шаг!
Сонный пассажир, снова приподняв голову, моргает, встревоженно глядит в полутьму:
— Пошто людей тревожат?
— Не видишь, етапных содют, арестантов, — поясняет сосед.
Холодно. С неба косо глядит белый месяц. На палубе мелькают черные тени, одна за другой проваливаясь в преисподнюю — в трюм.
У трюма — перекличка.
— Сизов!
— Я!
Черная тень, ссутулившись, ныряет вниз.
— Гибнер!
— Я!
— Жид… — .мимоходом определяет конвоир.
— Новиков, он же Кольцов, он же Кожушко, он же Иллари-ён!..
— Я…
— Эк жадный-то! Сколь прозвищ-то нахватал! — крестится внизу пораженный пассажир.
Запорожцев захлопнул оконце, присел на полку:
— Сейчас тронемся…
Ночью Федор проснулся. Все тело горело так, будто его во многих местах палили раскаленным железом. Клопы!
Он перевернулся, покрутил головой, и вся шея вдруг запылала от нестерпимого зуда.
— Григорий… Ты спишь?
Товарищ безмятежно спал рядом, не считаясь с нашествием голодных насекомых. Внизу, за бортом, настороженно шуршали о борт двинские волны, не нарушая сонной дремы на пароходе.
— Гриша…
Запорожцев так и не проснулся. Пришлось зажечь лампу и, разогнав клопов, облить пол и постель водой. Только после этого можно было прилечь снова, но сон еще долго не возвращался к Сорокину.
Закинув руки за голову, он лежал на спине, уставив взгляд в темный потолок, и не мог отделаться от тягучих и грустных воспоминаний.
Щемящее чувство вдруг извлекло из глубин памяти желтую акацию у ворот, грязный, заросший осокой пруд посреди уездного городка, тихую, немощеную улицу детства, по которой бегали когда-то его босые ноги в цыпках и ссадинах. Проломы в заборах, ворованные яблоки… И ярко, совсем свежо — сорванная с петли дверца голубятни, затяжной полет турмана и крик матери у крыльца: «Федя, не ушибись!..»
Бедная старуха! «Не ушибись…» Она твердила всегда, что он, ее сын, должен учиться на путейца и носить впоследствии инженерскую фуражку. Это дало бы ему положение. Но отец, учитель реального, оставил их раньше времени, унаследовав фамильную чахотку, и Федор выбирал судьбу по призванию, сам…
Потом — Ванька Лотарев. Передвижные театры в провинции, стихи, первая и несчастная любовь к гимназистке Сонечке Мезенцевой…
Потом его любили. Но он вспоминал вдруг материнское «Федя, не ушибись!..» и шел мимо, верный своей одинокой звезде. Куда же вела она его?
Она вела необычной дорогой, и это было хорошо, потому что не хотелось монотонного повторения того обычного пути, которым шли уездные чиновники. Хотелось удержаться на поверхности человеческого водоворота своими собственными силенками…
Жизнь еще сулила что-то новое. Федор поверил в это новое и наконец забылся тяжелым долгожданным сном.
Перед рассветом над рекой прошелестел теплый дождь, встряхнув вкрадчивым далеким погромыхиванием сонные берега. Потом облака разошлись, солнце рассеяло густой туман, сверкающая нестерпимым утренним блеском река открылась вдруг во всем своем вешнем великолепии.
Правый берег высился красными глинистыми обрывами и теснил Двину, зато по другую сторону ей был полный простор. Там раскинулись затопленные луга с тихими, одичавшими курьями, с кустами ольхи и черемухи, окунувшимися в воду до самых плеч. Полая вода спадала, оставляя на ветвях клочья желтой пены.
Пассажиры толпились на палубе, пользуясь часом хорошей погоды, которой Север не привык баловать людей. Часу в одиннадцатом вышел Федор, кое-как возместив двухчасовым отдыхом тревожную ночную бессонницу.
На пароходе кипела жизнь. Сновали шустрые, оборотистые людишки в пиджачных парах с блестящими цепями накладного золота через живот, молодцы приказчицкого вида в поддевках, с завитыми кудрями из-под околыша картуза, монахи и монашенки с пузырьками богородицыных слез. Вахтенный матрос гнал с верхней палубы Ваську-странника, предлагавшего из зеленой бутылки тьму египетскую и пучок Иисусовых волос.

























