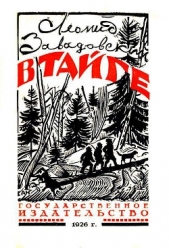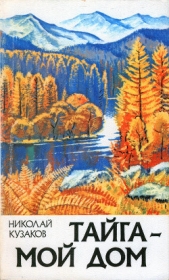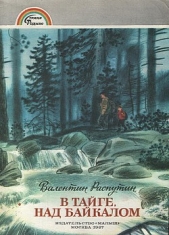Алые росы

Алые росы читать книгу онлайн
В новом романе автор продолжает рассказ о судьбах героев, знакомых нам по книге «Золотая пучина». События развертываются в Сибири в первые годы Советской власти.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Борис Лукич замахал руками.
— Перестань, мам! Ты даже примерно не представляешь себе Грюн как человека, как женщину. Если бы ты видела, как она хороша!
— Это, Боренька, еще не очень большой порок. Если муж с характером, и с красивой женой можно жить. Вот, если не дай бог, у жены ум, да поболее, чем у мужа, — тут, Боря, беда, тут собирай черепки.
— Мамочка, Грюн очень и очень умна. Намного умнее меня.
— Плохо, Боренька. Но ты говорил, что она честная, правдолюбка, прямая, а это, Боренька, я по-своему понимаю — не очень умна. По крайней мере, не наш, не женский ум у нее. Женщины все больше с изворотами, все больше из-за угла норовят. Ох, не люблю я умных женщин, а Грюн, по твоим словам, не такая. Сватайся, Боренька.
— Мамочка, ты не знаешь самого главного. Евгения — женщина очень передовая, свободомыслящая. Понимаешь?
— Свободную любовь проповедует? И пусть. Лишь бы сама не путалась, где не надо. Ты ее любишь?
— Не тирань ты меня. — Встал. Хотел выйти из комнаты, но Клавдия Петровна его удержала.
— Подожди, Боря, минутку. Посиди. Свободная любовь — это противное дело, хоть до кого приведись, хоть до женщины, хоть до мужчины. Но, Боренька, милый, ты же тоже не девственник, и в твои годы девку возьмешь лет шестнадцати — как бы хуже не получилось. И скажу тебе еще одно, есть разные матери. Они ревнуют к сыну всякую жену и портят жизнь самым хорошим людям. Есть матери, Боренька, — вздохнула Клавдия Петровна, протяжно и плечами передернула, будто зябко стало, — есть матери, для которых сыновье счастье превыше всего. Они ноги готовы целовать у женщины, если она только сыну счастье составит. Все им простит. Так вот. Боренька, свободная любовь — это просто собачья свадьба, только красивым именем названа, и никакая мать не пожелает сыну своему жену от свободной любви. И мужчина не пожелает себе такую жену. А я так счастья тебе хочу, если и впрямь ты любишь Грюн, тай женись. Перечить не буду. А если она хоть чуть да счастливым тебя сделает — в ноженьки ей поклонюсь. Все прощу… Все…
— Мама, какая ты у меня…
— Ну вот, теперь целовать свою мать. А мать-то, Боренька, все такая, как и была, та самая, на которую ты сердишься и слушать никак не хочешь.
— А Евгения Грюн, — уже про себя говорил Лукич, — чудо как хороша. Душой хороша. Но и лицо у нее очень красиво…
Вспоминая Грюн, Лукич каждый раз испытывал давно позабытый ребяческий трепет. Вспомнился зал городского театра. Митинг…
— Слово Евгении Грюн, — объявил председатель собрания и сразу же крики: «Браво Евгении, браво…» Гром аплодисментов оглушил Лукича. Она взошла на трибуну упругим шагом, стройная, с огромной копной огненно рыжих волос. На Евгении белая блузка с черным шелковым галстуком, синяя юбка с широким корсажем.
«Вот это женщина!» — восхитился Лукич.
Он вышел из театра сразу же, как Евгения спустилась с трибуны. Прислонившись щекой к холодной стене, пытался успокоиться, внушая себе, что он, взрослый, опытный человек, не гимназист, не должен поддаваться первому впечатлению. Но все его существо было охвачено восхищением и еще чем-то, не поддающимся определению. И это, никогда раньше не испытанное им чувство, было таким мощным, неодолимым, что сразу заглушило жалкий голос рассудка.
О чем она говорила, Лукич не мог вспомнить, но отчетливо слышал интонации глубокого голоса. Видел ее руки, красивые, с длинными пальцами. Пальцы были в непрестанном движении и как бы вплетали в цепь слова, которые она произносила.
— Боренька, Боря, да очнись ты, мой дорогой. К тебе кто-то пришел.
Сдвинув очки на лоб, Лукич увидел под окошком высокую девушку с черной косой — ту самую, что отогнала мальчишек от Васи. Сарафан ее, ичиги на ногах и коса присыпаны пылью, Лицо обгорелое, но приятное. Строгость какая-то в нем.
— Мне бы Бориса Лукича повидать…
— Я Борис Лукич. Что тебе, девушка?
— Вы?! — Доброе лицо нового знакомого и приветливая улыбка ободрили Ксюшу. «Такой непременно поможет». — Подошла вплотную к окну. — С докукой к вам. Тут, на озере, мужики рыбу ловили, а поп их забрал… Грозится коня продать…
— Слышал об этом. Они послали тебя ко мне?
— Я сама. Узнала, что вы за правду стоите, вот и пришла…
Борис Лукич самодовольно погладил ус — даже молодежь прослышала о нем и идет в Камышовку в поисках правды. Отложив газету, задумался на минуту. Ксюша приняла молчание за отказ и, приложив к груди сжатые кулаки, начала говорить, сама удивляясь, откуда берутся слова.
— Поп Константин назвал их ворами. Какое же воровство? Озеро божье, а нынче народное. Нынче ж свобода.
Слова Ксюши звучали упреком.
— Когда скотина ревет в хлеву, просит есть, так готов свой последний кусок ей отдать, а тут — ребятишки есть просят. До меня довелись такое, я бы тоже пошла хоть рыбки им наловить. Вы должны им помочь. Непременно должны. Больше некому.
Солнце садилось, и лиловая дымка повисла над Камышовкой, совсем как в то утро над озером. И так же, как там, слышались далекие голоса, будто рыбаки продолжали тянуть бредешок.
— Какой же это закон, — возмущалась Ксюша, — ежели он защищает сильного? Лежачего в наших краях не бьют даже в драке, и со слабым дерутся одной рукой — а тут из-за мешка рыбы четыре семьи по миру пускают.
«Ишь, заступница!» — любовался Лукич настойчивостью просительницы, влажным блеском ее больших черных глаз.
Тут чья-то рука легла на Ксюшину голову. Скосив глаза, она увидела рядом седую женщину, сухонькую, в простом черном платье.
— Ишь ты, какая пугливая. Я Борина мама, меня зовут Клавдией Петровной. И мне и Боре приятна твоя доброта и настойчивость. Ты, девушка, родня рыбакам?
— Впервые видела, матушка.
— И пришла просить за них? — голос у Клавдии Петровны ласковый, мягкий. — Хорошая ты, наверно. Сама-то откуда? Зовут как?
— Ксюшей. Рогачевская я. Рыбакам надобно непременно помочь. Дети у них. Растолкуйте вы это хозяину.
— Он, Ксюша, все понимает и сам. А ты рогачевская? С отцом приехала, с братом?
— Одна.
— За столько верст? И зачем? Ты говоришь мне неправду?
— Вот истинный бог, — Ксюша перекрестилась. Но в глазах Клавдии Петровны по-прежнему недоверие. А надо, чтоб старушка поверила, что привело ее в этот двор только возмущение несправедливостью.
Поверит старушка — повлияет на сына. И Ксюша решилась. Сжав жердь завалинки, она тихо сказала:
— В карты меня проиграли… в ваши края.
— Ты шутишь?
— Лучше уж в петлю, чем так шутковать. Отчим меня проиграл.
Без слезинки, только голос срывался, рассказала о том, как жила батрачкой у дяди Устина, как золото нашла ненароком.
— Сначала дядя Устин грезил новый хомут купить. А там как пошло: новый дом, шубы, лошади. Тыщи в его руки летели… Сын его Ваня помыслил посвататься за меня, так дядя обоих вожжами. Бесприданница, мол. А прииск-то мой. Я нашла. Бумаги все на меня. Да што тут сказывать долго. Вскоре прииск у нас отняли и зачистили все до копейки. А Сысой Козулин стал с дядей в карты играть. Сысой на кон лошадей поставил, а дядя меня…
— Господи, — Клавдия Петровна верила, так неправду не скажешь. Видела, как на смуглой щеке у Ксюши бился желвак. Погладила ее руку и тихо, спросила:
— Где ночевала прошлую ночь?
— В степи…
— А эту, милая, будешь ночевать у меня. Пойдем. Умойся. Поешь. Боренька, Боря, налей, пожалуйста, в умывальник воды. Он, Ксюша, сделает все, что только возможно.
2.
До чего хорош чай с молочком после целого дня пути под палящим солнцем, даже если он налит в мирскую посуду. Ксюша пила и просила у бога прощения за грех.
А до чего вкусен хлеб после целого дня поста, пахнет— аж кружится голова и есть его жалко. До чего же сладка хрустящая корочка! Ксюша боялась ее проглотить, казалось, второй такой не бывать.
Посередине стола на тарелке лежали шаньги, в мисках — сметана, творог, а Ксюша жевала хлеб, подбирала упавшие крошки и все говорила о рыбаках.