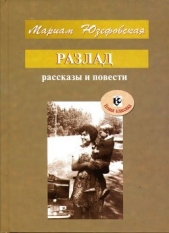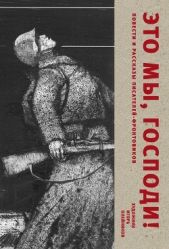Господи, подари нам завтра!

Господи, подари нам завтра! читать книгу онлайн
– Ты считаешь, что мы безвинно страдающие?! Хорошо, я тебе скажу! Твой отец бросил тору и пошёл делать революцию. Мою невестку Эстер волновала жизнь пролетариев всех стран, но не волновала жизнь её мальчика. Мой сын Шимон, это особый разговор. Но он тоже решил, что лучше служить новой власти, чем тачать сапоги или шить картузы. У нас что, мало было своего горя, своих еврейских забот? Зачем они влезли в смуту? Почему захотели танцевать на чужой свадьбе?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все нападки, язвительные подковырки и шуточки деда обычно пропускала мимо ушей. Но иногда вскипала. И тогда, дерзко блестя глазами, бросала свысока:
– Ты же у нас известный на всю округу хохэм (умник).
– Все слышали, что сказала эта женщина? – резким фальцетом вскрикивал дед. Но, бросив быстрый взгляд на Риву, тотчас сконфуженно умолкал.
Тут, в мастерской, он был совсем не похож на того суетливого, взъерошенного, то и дело вспыхивающего от обиды человека, каким я его видела у нас на Ришельевской. Здесь он был совсем другим. Широко расставив коротковатые ноги и вытянув трубочкой толстые губы, он долго, пристально вглядывался в материал, расстеленный перед ним на столе. Иногда что-то беззвучно нашептывал. Обходил несколько раз вокруг стола, лязгая в воздухе ножницами, точно примериваясь к предстоящей работе. И вдруг стремительно начинал резать. Казалось, безжалостно кромсает материал на куски. Через час сметанные на живую нитку брюки были уже в руках у напарника.
– Твой дед в своем деле артист, – изредка бросал Егор.
Дед Лазарь скупо усмехался, насмешливо поддакивал:
– Угу, артист погорелого театра.
Даже о своей дочери, тетке Мане, он говорил без обычной запальчивости.
– Ну как там поживает твоя мумэ (тетя)?
Конечно, глаза его насмешливо щурились, губы складывались в едкую усмешку, но не было той жгучей злобы, что вскипала в нем, у нас на Ришельевской.
– Что ты экономишь?! Что ты жалеешь копейку детям? – гневно вскрикивал он. Обычно это был зачин.— Я тебе даю. Вэлвэл тебе присылает. А ты все копишь, копишь, копишь. Я у тебя спрашиваю, девочка должны ходить в таких чулках?— дед хватал заштопанный теткой чулок и совал ей под нос. – А на себя посмотри! Сколько раз ты уже лицевала свое пальто?
– Что ты хочешь, папа? Успокойся, папа! – беспомощно сцепив руки, шептала тетка.
– Что я хочу? – вскипал дед с новой силой.
Иногда мне казалось, что безответность тетки еще больше распаляла его. Он словно срывал на ней всю ту обиду и боль, что беспрестанно мучила, жгла его душу.
– Я хочу, чтоб они имели все: платья, туфельки, игрушки, – он загибал палец за пальцем. И, потрясая в воздухе уцелевшим жилистым кулаком, злобно сипел, – они должны жить, как царицы! Ты, бесплодная смоковница, разве ты понимаешь, что такое ребенок?
Ты, как твоя покойная бабка. Та тоже знала только одно: деньги, деньги, деньги. На пурим она выдавала твоей маме шаль и шевровые туфли. А после праздника снова все прятала в сундук до следующего пурима. Каждое зернышко было у нее на счету. Чем все кончилось? Где все ее добро? Где твоя мама Рейзеле? Ты знаешь, что ждет завтра этих детей в нашей бандитской малине? Знаешь? Я тебя спрашиваю!» Он подступал к тетке. Та цепенела от ужаса. Веснушки ярко проступали на ее мучнисто-белом лице. Зажав рукой рот, она начианала беззвучно плакать. Я обычно забивалась у угол. Лишь моя бесстрашная сестра умела мгновенно пресекать его вспышки гнева.
– Что ты раскричался? – сурово насупившись, она дергала деда за руку, – ты пришел в гости. Сядь и сиди. И жди, когда тебе дадут чашку чая, – Ее блестящие светло-шоколадные глаза властно, поженски сверкали. – Так делают приличные люди.
Дед мгновенно обмякал. Становился перед ней на колени. Прижав правой рукой к груди ее кудрявую голову, тихо шептал:
«Рейзеле, копия Рейзеле, тебе на долгие годы, – и толстые губы его начинали дрожать.Ты опять все перепутал. – Сестра сурово хмурилась, – С чего ты вдруг взял, что я Рейзеле? Ну-ка, быстро — как меня зовут Тихая виноватая улыбка скользила по его лицу. Дед отводил взгляд в сторону. Начинал осторожно дуть на ее кудряшки. И она, откинувшись назад, заходилась в заливистом, звонком смехе.
Сестра с детства как-то сразу, твердо определила свою линию жизни. И, сталкиваясь с тем, что вызывало у меня приступы бессильного страха, отчаяния и злобы, лишь заносчиво встряхивала кудряшками. Где я то и дело спотыкалась, падала, она единым махом преодолевала все рытвины и ухабы бытия. Потирая ушибы, зализывая кровоточащие шрамы, я не столько шла по жизни, сколько настороженно оглядывалась по сторонам. Мне казалось, что мир вокруг меня наполнен ненавистью, опасностью и страхом. Она же, не обращая внимания на тычки и колдобины, шагала вперед не оглядываясь. Лишь изредка, в особо трудные минуты жизни, сводила к переносице изогнутые серпом черные брови. Но тотчас, словно спохватившись, гордо, независимо усмехалась.
В придачу ко всему природа отпустила моей сестре практичность и легкий открытый характер. Утро, обычно, у нее уходило на сбор дани. И пока я давилась холодной скользкой картошкой в мундире, которую оставляла нам заботливая, но до скупости экономная тетка, сестра обходила наш двор. Деликатно постучавшись и стремительно просовывала в узкую щель кудрявую голову: – Здоровэньки булы, – говорила сестра, подражая знаменитым в ту пору Тарапуньке и Штепселю, при этом заразительно смеялась, встряхивая тугими иссиня-черными локонами.
Я чутко вслушивалась в звуки, доносящиеся из гулкого колодца нашего тесного дворика. Хлопанье дверьми, шум воды из колонки, перекличка голосов – все это внезапно перекрывал сильный грудной голос сестры:
– Дывлюсь я на небо, тай думку гадаю, – задушевно выводила сестра.
«Опять у бабки Гарпыны пасется», – уныло думала я, в сотый раз переставляя в старом рассохшемся буфете пустые банки из-под варенья. Обычно бабка Гарпына ничего, кроме каши-размазни, для своей дочери-язвенницы, что служила инструктором в райкоме, не варила. Два раза в месяц – в день аванса и получки нашего дворника Колыванова – сестра самозабвенно выводила полный щемящей и неизбывной тоски напев:
«Как пойду я на быструю речку». Тогда я оживлялась. Дворничиха Колываниха, которая неизменно заказывала сестре эту песню, пекла тающие во рту пироги с картошкой. В остальные дни на колывановский шаткий столик ставилось с полдюжины железных мисок с пустыми щами – все, чем баловала Колываниха свою ораву.
Сама за стол не садилась. Лишь изредка застенчиво ныряла ложкой в миску своего любимца Петьки. Но наступало разговенье – аванс и получка. И хоть уже с утра душа ее томилась от тревожных предчувствий, она пекла пироги.
– А подь-ка на улку, глянь, не идет ли отец, – то и дело посылала она кого-нибудь из сыновей. Белесые, низкорослые, скуластые – все в отца, мальчишки Колывановы угрюмо отнекивались, кивая друг на друга. Наученные горьким опытом, знали, доносчику – первый кнут. Завидев сына, пьяный Колыванов тотчас кидался на него с кулаками:
«Следишь, пащенок?! Мать подослала? А ну подь сюда! – Качаясь, он пересекал двор, рывком открывал дверь и, остановившись на пороге, грозно подзывал жену:
– А ну, подь сюда! – грозно подзывал он жену И она, высокая, статная, на голову выше его, робко шла, норовя боком, незаметно пронести мимо мужа свое ладное тело. – Чего уставилась? У-у глаза твои бесстыжие, – свирепел он. И Колываниха, словно загнанная измученная лошадь, переминалась с ноги на ногу, покорно опустив голову, шарахаясь от его тычков, прикрывала руками лицо, но ускользнуть не смела.
– Стоять, кому говорят, – шипел дворник вытягивая, точно гусь, тонкую шею. – Стоять!
Наш двор уже давно привык к его пьяным выкрикам, к шаткому штакетнику его палисадника, окрашенному в ядовитый зеленый цвет к его синей застиранной майке с широкими, вытянутыми чуть ли не до пояса проймами, что свободно обвисала на нем.
Это была наша жизнь. И другой мы не ведали. Все шло по заведенному порядку. Неотвратимо, как восход и закат.
Ближе к полудню во двор на мусорной машине въезжала быстрая, как ртуть, толстуха Сойферт, что жила под нами на первом этаже. Она выскакивала из кабины, путаясь в длинном брезентовом переднике, и начинала звонить в колокольчик, взывая: « Му-сор, му-сор».
Затем натягивала брезентовые негнущиеся рукавицы, хватала лопату и, ловко направляя в жерло машины зловонное месиво, поторапливала медлительных жильцов: « Швыдчей, швыдчей, граждане!» Наконец, перекрывая шум мотора, кричала своему мужу Менделю, что сидел за баранкой: «Генуг (хватит)!» Мотор, зверски взревев в последний раз, мгновенно глох. Из кабины неуклюже вываливался высокий, широкий в кости, с крупным вислым носом могучий Мендель. В тот же миг, словно из – под земли, рядом с ним вырастала сестра.