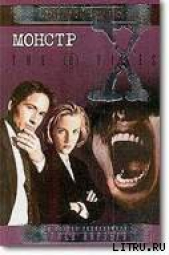Смерть и рождение Дэвида Маркэнда

Смерть и рождение Дэвида Маркэнда читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дэвид Маркэнд выхватывает первый, сырой еще лист и несет его Тиму Дювину, который, не торопясь, зажигает трубку и просматривает оттиск. Он кивает, и старая печатная машина у задней стены приходит в движение; комнату наполняют стук, визг, лязг, стук, треск, визг. Дювин шарит под столом и достает четвертую бутыль пива (его жена мастерски варит пиво, а такая жена - клад в сухом Канзасе). Маркэнд бросает несколько слов мальчишке-подручному, достает два стакана, и Дювин доверху наполняет их пенящейся жидкостью. Пиво пенится чуть больше обычного: жена, должно быть, переложила закваски или еще что-нибудь. Но Маркэнд полон благодарности; стол Двеллингов - сплошь мучное и мясное - был бы невыносим без целительного бальзама Тима. Они пьют только в отсутствие патрона: в Лиге принято быть набожным и трезвым. Бутылка с пивом - излишний, неизвестный Двеллингам повод для Маркэнда день и ночь работать в "Звезде".
- Газета становится лучше, - говорит Маркэнд и рукой вытирает рот.
Такая манера выражаться Тиму непонятна. Но он больше не питает предубеждения против франта с Востока. Когда Маркэнд стал каждое утро сам отпирать двери, и подметать полы, и расплавлять отработанный шрифт, и учиться у Тима работе на линотипе, старый печатник покосился на него, как всегда, не говоря ни слова. Но когда франт, вместо того чтобы, устав, охладеть, продолжал работать, Тим вдруг забыл свою ненависть ко всему, исходившему с Востока. Однажды он поймал себя на том, что говорит с Маркэндом, как с другом; тогда он сдался и позволил себе полюбить его. Это не значит, что он понимал все, о чем говорил Маркэнд, - далеко нет. "Звезда" становится лучше" - так Тим никогда бы не сказал. Для Дювина мир не измеряется понятиями "хорошо" и "плохо". Он подходит к этому миру с мерилом давно прошедшего доброго старого времени и смерти. Когда он был мальчиком, а на президентском кресле сидел Грант, - вот это была жизнь. Фермы ломились от плодов и злаков; в маленьких деревушках один шил сапоги, а другой делал стулья, и, чтоб напилить дров, собирались парами; на равнинах хороший охотничий пес еще мог учуять индейца или бизона... вот это была жизнь! Потом напала эта порча с Востока. Она принимала разные обличья: появились газеты, телефоны, фабричного производства товары; но Тима в ту пору это ничуть не встревожило. Фермы стали сбиваться в кучу, словно испугавшись прерии; теперь они выращивали свиней и сеяли рожь не для живых своих братьев, но для мертвой громады по имени Рынок. Сапожники перестали шить сапоги и принялись чинить непрочные городские подметки, которых не хватало и на год. Каретники закрыли свои лавки - им не угнаться было за Канзас-Сити и Чикаго. И вместо того чтобы спокойно беседовать или петь, люди стали читать восточные газеты и, как попугаи, повторять прочитанное. Это была смерть. Дювин враждебно глядел на сморщившийся мир, который он знал краснощеким и веселым. И вот ему встретился франт с Востока, откуда все пошло... Нет, Тим не из тех, что задают вопросы. Когда Маркэнд хочет знать, как набирают шрифт, он учит его; когда он видит, что тот держит метлу, как лопату, он учит его. Но хоть ему и кажется странным, что житель Нью-Йорка, пускай с запозданием, хочет выучиться честному ремеслу, он учит его, держа свои мысли при себе.
Сейчас, опустив шторы, они сидят, как два старых приятеля, за кружкой пива...
- Да, - говорит опять Маркэнд, - газета становится лучше. Но я все-таки не совсем доволен.
Вот еще одно слово, не свойственное языку Тима: "доволен". Однако от этого парня немало занятного можно услышать, если сидеть спокойно и не обращать внимания на его слова, а только ловить смысл, скрытый за ними.
- Ведь это должна быть фермерская газета, - говорит Маркэнд. - А из чего, собственно, складывается жизнь фермера? Его дом и амбары; его жена и дети; его скотина; его земля и то, что на ней растет. Всем этим никогда и не пахло в "Звезде".
Тим делает глоток и выпускает из трубки дым.
- Помните, я говорил вам о нашей фирме в Нью-Йорке - табачном предприятии, где не чувствовалось даже запаха табаку. Единственный запах там - это запах денег. Так вот, черт возьми, почти то же самое и в "Звезде". А ведь на фермах, во всяком случае, пахнет не только деньгами.
В глубине комнаты стук, визг, лязг, треск, стук, визг... тишина. Тим Дювин рукавом отер губы и пошел к машине.
- Вот что странно у нас в Штатах, - говорит Маркэнд. - Можно заниматься каким-нибудь делом - с головой уйти в него - и не чувствовать, чем оно живо. У жизни свои особые запахи: запах детских игр, запах земли, запах любви. В Штатах боятся запахов.
Тим Дювин в глубине, у машины, ругает подручного; он делает вид, что не слышит и половины из того, что говорит Маркэнд. С грохотом, шумом, лязгом снова заработала машина. Тим возвращается к своему пиву.
Он допивает молча. Какое-то напряжение появляется на его лице, какая-то неопределенная тревога. Он пытливо глядит на бутылку, словно в ее пустоте заключен для него приказ. Он сосредоточивает взгляд и подбирает губы и в первый раз с тех пор, как Маркэнд знает его, произносит длинную и членораздельную речь.
- Как-то, - говорит он, - лет двадцать тому назад я работал в Топека. Была там одна женщина, что-то вроде кассирши и машинистки у патрона. Красивая такая женщина, большая, сильная. Мы все при ней казались словно другой, низшей породы. Я часто удивлялся: что она делает тут в конторе, когда ей бы надо быть женой первого человека в городе! Она не была замужем, хоть уже было ей под тридцать. Но чтоб путаться с кем-нибудь, этого тоже за ней не знали. Ни разу ее никто не встречал с мужчиной. Как только звонок в конце работы, так она сейчас шляпу пришпилит, лицо вуалью закроет и уйдет. Но она была счастлива. Ее лицо так и сияло счастьем, словно солнышко, на всю контору. Я все не мог понять, в чем тут дело. Потом случайно узнал. Как-то работал я сверхурочно, и патрон послал меня к ней, к этой женщине, домой, снести кой-какие бумаги, чтоб она переписала их вечером. Она жила на втором этаже. Вот я поднялся и стучусь в дверь. Никто не отвечает. Я опять стучусь. Может быть, ее дома нет? А меня, помню, в тот вечер ждала одна девушка. Не могу же я, думаю, посреди свидания оправить ей юбку и сказать: "Извините, но мне нужно сходить отнести тут один пакет". Может, оставить его на столе с запиской... если удастся войти. Поворачиваю ручку, дверь открывается. В комнате вроде темно, и я ничего не вижу. Потом вдруг вижу ее. Она стоит на коленях, у окна, подняв глаза к потолку, и молится. И она не перестает молиться, а я стою в дверях и двинуться не решаюсь ни туда ни сюда. Стою и стою, а она молится и молится. Потом она поднялась, и мне ясно стало: она все время знала, что я здесь. Но она молилась и не хотела ни открывать дверь, ни брать пакет, ни здороваться со мной, пока не кончит свою молитву. Подошла она ко мне, улыбается, как всегда. "Вы мне принесли что-нибудь?" говорит, и лицо у нее - как солнышко поутру.