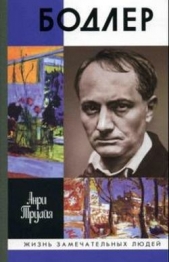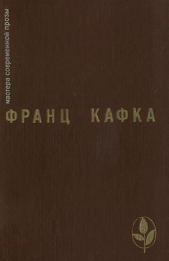Гибель всерьез
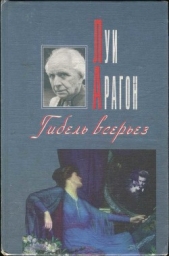
Гибель всерьез читать книгу онлайн
Любовь и смерть — вечная тема искусства: Тристан и Изольда, Джиневра и Ланселот, Отелло и Дездемона… К череде гибельно связанных любовью бессмертных пар Луи Арагон (1897–1982), классик французской литературы, один из крупнейших поэтов XX века, смело прибавляет свою: Ингеборг и Антуана. В художественную ткань романа вкраплены то лирические, то иронические новеллы; проникновенная исповедь сменяется философскими раздумьями. В толпе персонажей читатель узнает героев мировой и, прежде всего, горячо любимой Арагоном русской литературы. Но главное действующее лицо "Гибели всерьез" — сам автор, назвавший свой роман "симфонией зеркал, галереей автопортретов художника в разных ракурсах".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Омела, обнажив прием… Что ж, выскажемся до конца. Омела, обнажив прием, обрекла на гибель одного из нас: Антоана или меня. Почему? Не знаю. Может, она сама не понимает. Но Антоана или меня? Додумаем до конца… Я выбирал слишком долго. Выбора больше нет. Омела потребовала. Я умываю руки. Фу, как вульгарно. Во всех убийствах из-за любви убийца перекладывает вину за собственное преступление на ту, кого любит, — это она, она! Она так захотела, что же мне оставалось?! Она, например, рассмеялась или отвернулась, и мне ничего не оставалось, как убить, убить, убить. Отвечает ли человек за то, что сделался топором, топором и только? Зачем та женщина, что держала топор, уронила его по небрежности?..
Зеркало повернулось, окончательно повернулось — и в нем кровь… Сколько бы я ни колебался… как бы ни пытался отогнать, как мух, неотвязные мысли, они возвращаются и роятся вокруг меня. Я переполнен их жужжаньем. Они заслонили от меня все. Я заблудился в этом гудящем лабиринте. Не слышу ничего другого. Глух ко всему, кроме биенья крови, толчков безжалостного сердца. Он или я. Я или Антоан. И в зеркале передо мной — лишь Антоан, невинный Антоан. Жертва. Глупо убийце раскисать перед собственной жертвой. Но жертва так на него похожа — такой же человек, из плоти и из крови… не надо слишком пристально смотреть — не то увидишь собственные глаза, почувствуешь свое дыхание, биение своего сердца. Какой же я трус!
Чтоб найти силу убить — силу руки и силу духа, — что надо сделать? Как нанести удар собственному отражению? Волнуется моя разделенная надвое кровь… Антоан, брат мой, мое подобие… Я боюсь удара, который рассечет нас, словно близнецов, родившихся с одним сердцем, нож вонзается в анастомоз души, больно ли было ногам Петера Шлемиля, когда дьявол отделил от них его собственную тень. Мне нужно восстановить себя против себя другого, озлобиться, напитать свою ненависть, отыскать различия. И мало-помалу, подспудно — слишком живо еще во мне эхо «Карнавала», музыки, не знающей жалости, властные аккорды, жестокая точность Рихтера — мной овладевает мысль: в следующем произведении Антоана найду я оправдание моего поступка, он перестанет быть братоубийством, я окончательно удостоверюсь, что Антоан — совсем не я, что он другой, он — дикий зверь, с которым надо покончить, что в любом случае он мне чужд, да-да, постепенно стал чужим, возможно, потому что писал и жил, все больше отделяясь от меня и обретая собственную личность… он человек другой породы, мы уроженцы двух воюющих стран, и, значит, у меня есть право убить его, больше того, это стало моим долгом, неважно как, не право, а долг, убить свирепо, хмелея от его боли, осыпать яростными ударами, забить, изорвать, уничтожить. Тот, кого я убиваю, должен дорого заплатить за то, что он чужой, иной, чем я, что он уже не я.
Что я говорю? О чем думаю? Где найти прощение или подтверждение? Красное пятно тихонько расплывается во мне: дозревает идея. Третья история. Из красной папки. Она возмутила меня своим вымученным фальшивым ёрничеством и, главное, открыла глаза на то, как далеко развели нас с Антоаном прожитые годы. Итак, «Эдип». Я перечитаю «Эдипа» и найду причину для смертоубийства.
А из соседней комнаты вдруг хлынул поток, дерзким вызовом — звуки электропианино и голос, удивительно напоминающий перезвон хрустальных колокольчиков. Слова:
Куда, куда спешит
Индуска молодая,
Когда луна висит,
Среди мимоз сверкая?..
[149]
исчезают, драма не нуждается в смысле, поет душа, избавившаяся от оков, от стихоплетства, оперы, от Лео Делиба, от всего на свете, звук все выше, выше диапазон женственности, озарение, не нуждающееся в словах торжество гармонии… О, Боже! Поет ли Дездемона или Лакмэ — тебе, тебе одной, Омела, открываются выси, недоступные мне подобным… выси, которых я могу коснуться лишь с твоею помощью.
Третий рассказ из красной папки
Эдип
Die Leiden scheinen so, die Œdipus getragen, als wie ein armer Mann klagt, dasz ihm etwas fehle… Hölderlin[150]
Сделалось прежде, чем было помыслено. Человек погиб до того, как его решили убить. И жизнь убийцы переменилась, все в ней приобрело другой смысл, возникло иное будущее, как будто текст переписали заново.
Зачем идти утром на службу? Чему служат конторские бумаги? Иной стала подоплека каждого шага. Общение с людьми затаило зерно абсурда. В любой фразе мерцал тайный смысл, все они стали маской, напоказ одетым платьем, способом затаиться. Слово утратило присущую ему природу, оно не сообщало, а скрывало.
Некоторые человеческие чувства явно устарели. Конечно, молниеносная смерть появилась не вчера, так же как стремление убийцы замаскироваться. Но что-то в нашей душе уже не соответствует ритму пеших и даже велосипедных прогулок. Привычка завтракать в Нью-Йорке и сейчас же возвращаться обратно отражает современную стремительность ума. При этом главное не скорость, а медлительность, с которой мы осознаем свершившуюся перемену: жизнь уподобилась счетной машине, человек получает готовый результат, прежде чем успевает выписать цифры и подвести черту.
Происходило же все в серо-бежевом городе, куда внезапно нагрянула весна, ошеломляя яркими красками, необъятным небесным сводом, синими тенями на улицах. Одежда показалась лишней, на авансцену вышли женщины, работяги сбросили грубые свитера, и в новой Кане Галилейской множились и множились парочки. Какие только огни не играли в глазах, в витринах, на крышах. Полыхали новые рекламы, бесстыдно ратуя за весну. Все до одного прохожие казались беззаботными туристами. Нет больше смысла таить от вас, что происходило все в Париже.
«И если я, — размышлял новоиспеченный убийца, — сам того не желая, а вернее, не успев пожелать, обмозговать, помучиться, — взял и убил… то, стало быть, это убийство непреднамеренное или вообще не убийство, а несчастный случай. Убийство по оплошности. Но в чем состояла моя оплошность? В том ли, что я зарядил револьвер, или в том, что не поставил его на предохранитель, что вытащил его, грозил им, уперев ствол в область сердца, или в чем-то совсем другом? Разве не должен существовать побудительный мотив для того, чтобы осуществилось преступление? Я ищу его и не нахожу, у меня на него просто не хватило времени. Конечно, постфактум, можно какой-нибудь придумать. Вообразить, нафантазировать. Однако у меня и постфактум не выходит, воображения, видно, маловато, редко, видно, детективы читал. Но главный-то ужас в том, что судьи наверняка до ушей напичканы всякими детективами и побудительные мотивы так и кишат у них в голове».
Крепыш с приятной, но неприметной наружностью, он перешагнул за тридцать. А в этом возрасте мужчина озабочен тем, чтобы каждый день доказывать свое мужское достоинство, иначе не заснет всю ночь. Вот и его занимал только этот предмет. И зачем вдруг было убивать незнакомого человека, да еще сразу после обеда, когда особенно неймется и можно без помех гулять по улицам и глазеть на хорошеньких девушек? Откуда же мне знать, если он не знает сам.
Несколько позже, когда о событии написали в газетах, у него появилась возможность довольно непринужденно обсуждать его с малознакомыми людьми, он стал высказывать предположения, взятые с потолка, — что-то вроде крючка, наживки: проверить, не клюнет ли рыбка на червячка, да и насколько леска крепка. Собеседники охотно вступали в разговор, высказывали свои мнения, сомнения, пожимали плечами от недоумения, словом, полным ходом репетировались будущие прения — встать, суд идет! Начал с гипотез правдоподобных и гладких — такие никого не возбуждали и не убеждали. Дальше — больше, пошли дерзкие и рискованные, с психологической подкладкой — на них-то люди оказались падки: «постойте-ка, тут что-то есть!» Но однажды убийца поговорил с человеком, чья молодость пришлась на предвоенное время, и на крючок поймали его самого. Собеседник его был банкиром, любившим чтение и свою смазливенькую подружку. В 1935 году, накануне Народного фронта, ему было лет двадцать. Все тогда увлекались Жидом. И вот он предположил, что речь в данном случае идет об убийстве без побудительного мотива, так сказать, бескорыстном. «Богатая мысль», — вежливо отозвался наш убийца. А про себя восхитился: кто еще, кроме золотого мешка, мог обрадоваться, что хоть в преступлении не замешана корысть?! По крайней мере, поначалу.