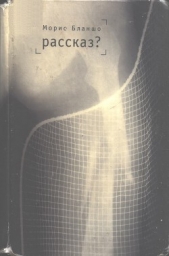Мишель Фуко, каким я его себе представляю

Мишель Фуко, каким я его себе представляю читать книгу онлайн
Морис Бланшо (р. 1907) — крупнейший французский писатель и мыслитель ушедшего века, оказавший огромное влияние на современную гуманитарную мысль. Эссе «Мишель Фуко, каким я его себе представляю» (1986) парадоксальным образом объединяет панораму творчества Фуко, целостное описание ландшафта его мысли и неожиданное, трогательное в своей сдержанности признание в дружбе. Вошедшая в приложение рецензия написана Бланшо по случаю выхода в свет одного из интеллектуальных бестселлеров XX века, знаменитой «Истории безумия» — тогда еще «практически первой» книги безвестного автора.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это и есть Ренессанс, когда он высвобождает таинственные голоса, при этом их умеряя.
«Король Лир», «Дон Кихот» — безумие тут как нельзя на свету. И Монтень размышляет по поводу Тассо, восхищается им, спрашивая себя, не обязан ли тот своим плачевным состоянием слишком большой ясности, которая его, чего доброго, и ослепила, «той редкостной способности к душевным проявлениям, которая лишила его вослед за проявлениями и самое души». Приходит классический век; определяются оба движения. Декарт «странным усилием» сводит безумие к молчанию; таков торжественный перебой первого «Размышления» — отказ от всяких отношений с сумасбродством, которого требует воцарение ratio. Проделывается это с показательной жесткостью: «Но ведь это помешанные, и я был бы таким же сумасбродом, если бы поступал, как они». Утверждается это одной фразой: если, бодрствуя, я еще могу предполагать, что грежу, мысленно предполагать себя безумным я не в состоянии, поскольку безумие несовместимо с опытом сомнения и реальностью мысли. Вслушаемся в эту фразу — речь идет о решающем моменте западной истории: человек как осуществление разума, как утверждение суверенности способного на истину субъекта — это сама невозможность безумия, и, конечно же, людям может случиться сойти с ума, но сам человек, субъект в человеке, на это не способен, ибо человек только тот, кто вершится утверждением суверенного Я, в исходном выборе, который он совершает против Безрассудства; пренебрегать каким-либо образом этим выбором означало бы выпасть из человеческой возможности, выбрать человеком не быть.
«Великое Заточение», которое производится словно бы в одночасье (однажды поутру в Париже арестовывается 6000 людей), подтверждает это изгнание безумия, замечательным образом его расширяя. Заточают безумцев, но в то же время и в тех же самых местах ссыльным актом, который их смешивает, заточают и убогих, и бездельников, и развратников, и богохульников, и либертенов — тех, кто мыслит плохо. Позднее, в прогрессивные эпохи, по поводу этого смешения будут негодовать или посмеиваться, но смеяться тут не над чем, это движение наполнено смыслом: оно показывает, что семнадцатый век не свел безумие к безумию, а, напротив, воспринял взаимоотношения, которые оное поддерживает с другими радикальными опытами, опытами, касающимися либо сексуальности, либо религии, атеизма и святотатства, либо либертинажа — то есть, подытоживает Мишель Фуко, находящихся в процессе установления отношений между свободной мыслью и системой страстей. Иначе говоря, в молчании, в уединении Великого Заточения складывается — движением, отвечающим провозглашенному Декартом изгнанию — не что иное, как сам мир Безрассудства, лишь частью которого является безумие, тот мир, к которому классицизм присоединил сексуальные запреты, религиозные интердикты, все излишества мысли и сердца.
Этот моральный опыт безрассудства, являясь изнанкой классицизма, так молча и продолжается; проявляется он, приводя к едва заметному социальному установлению: замкнутому пространству, где бок о бок пребывают безумцы, развратники, еретики, изгои; своего рода бормочущей пустоте в самой сердцевине мира, неясной угрозе, от которой рассудок защищается высокими стенами, символизирующими отказ от всякого диалога, исключение. Никаких отношений с отрицательным: его караулят на расстоянии, его пренебрежительно отбрасывают; это уже не космическая магия предшествующих столетий, это ничего не значащий пустяк, банальная бессмыслица, И тем не менее для нас и частично для самого века это лишение свободы, которому подвергаются все безрассудные силы, это предуготовленное им затравленное существование их негласно сохраняет, возвращает им тот предельный «смысл», который им принадлежит, в пределах тесных затворов выжидает нечто чрезмерное; в камерах и подвалах — свобода; в безмолвии заточения — новый язык, речь нагилия и желания без изображения, без значения. Свои последствия будет иметь это навязанное соседство и для безумия: как высшие негативные силы отмечены алой буквой, так и буйные сотоварищи по цепям развратных и беспутных останутся их сообщниками под общим небосводом Проступка; никогда это отношение вполне не забудется; никогда научное познание душевных заболеваний не откажется от этого предоставленного ему моральными требованиями классицизма основания. Но взамен, как говорит Мишель Фуко, тот факт, что «первой моделью душевного расстройства послужила своего рода свобода мысли», внесет свой вклад в поддержание тайной силы современного понятия умопомешательства.
Но не в XIX веке, когда нарушается родство между «расстройством» медиков и «отчуждением» философов. Общение, вплоть до реформы Пинеля обеспечивавшееся приведением в соприкосновение существ безрассудных и существ безумных, это безмолвное собеседование между безумием, относимым к беспутству, и безумием, относимым к болезни, порвалось. Безумие завоевало свое своеобразие, оно стало простым и чистым, оно впало в истинность, оно отказалось от негативной странности и обрело свое место в спокойной позитивности подлежащих познанию предметов. Позитивизм (который, впрочем, остается связанным с формами буржуазной морали) под видом филантропии, похоже, обуздал безумие более решительным образом, навязав более изнурительный детерминизм, нежели все предыдущие исправительные механизмы. Впрочем, низвести безумие к безмолвию, либо в действительности заставляя его замолчать, как в классическую эпоху, либо замыкая его в рациональном саду разновидностей, как на протяжении всех просветительских веков, — постоянный импульс озабоченных поддержанием разделительной черты западных культур.
* * *
Чтобы — возможно — вновь услышать язык безумия, нужно обратиться к великим в своей мрачности произведениям литературы и искусства. Гойя, Сад, Гельдерлин, Ницше. Нерваль, Ван Гог, Арто — эти жизни зачаровывают нас тем влечением, которому они были подвержены, но также и отношением, которое каждый из них, кажется, поддерживал между смутным знанием Безрассудства и тем, что ясное знание — знание науки — зовет безумием. Каждый из них на свой лад, каковой никогда не оказывается тем же самым, препровождает нас к вопросу, поднятому выбором Декарта, вопросу, в котором определяется сущность современного мира: если рассудок, та мысль, что является силой, исключает безумие как саму невозможность, не должна ли эта мысль в стремлении существеннее испытать себя как сила без силы, стремясь вновь поставить под вопрос утверждение, отождествляющее ее с единственной возможностью, не должна ли она каким-то образом отойти сама от себя и отослать себя от посреднической и терпеливой работы обратно к заблудшему поиску — без работы и терпения, без результата и произведения? Неужели она не может прийти к тому, что, возможно, является ее конечным измерением, не проходя через так называемое безумие, и, проходя через него, в него не впасть? Или еще: до какой степени может удержаться мысль в различии безрассудства и безумия, если в глубинах безрассудства проявляется не что иное, как зов безразличия: нейтральное, каковое к тому же и есть само различие, то, что ни в чем не различается? Или еще, подхватывая Выражение Мишеля Фуко, что же обрекает на безумие тех, кто однажды покусился испытать безрассудство?
Писатели, художники (странные, всегда уже устаревшие имена)… можно спросить себя, почему именно они в первую очередь выдвинутые и подобные вопросы и вынуждали других проявить к оным внимание. Ответ поначалу почти поверхностен. «Безумие» — это отсутствие дела, а художник — человек в высшей степени на изделие, на произведение направленный, но также и тот, кого подобная забота вовлекает в испытание того, что всегда наперед разрушает произведение-изделие и всегда, же завлекает его в пустые глубины безделья, откуда никогда ничего бытийного не исходит[6]. Нельзя ли сказать, что это абсолютное развенчание произведения (и в каком-то смысле исторического времени, диалектической истины), каковое то раскрывается литературному произведению, то замыкается в растерянности, а подчас утверждается и в том, и в другом, указывает на ту точку, где как раз обмениваются заблуждение и творчество, где любой язык колеблется еще между чистой болтовней и истоком речи, где время, отклоняясь в отсутствие времени, приносит в своей вспышке образ и признак Великого Возвращения, который, должно быть, на мгновение выхватил, прежде чем кануть во тьму, взгляд Ницше? Сказать, естественно, невозможно. Все же, если никогда нельзя быть уверенным, что, исходя из безделия, сможешь определить отношение, это противостояние безрассудства и безумия, безумия и произведения, иначе как бесплодное, если в одном и том же человеке, например, Ницше, только и можешь, что оставить в странном пребывании с глазу на глаз, в немотствовании, каковое есть боль, существо, исполненное трагической мысли, и существо невменяемое, то же самое и не имеющее к нему никакого отношения, имеется и событие, способное подтвердить для самой же культуры ценность этого причудливого опыта безрассудства, каковым в собственном о том неведении обременен (или от него избавлен) классический век. Событие это — психоанализ.