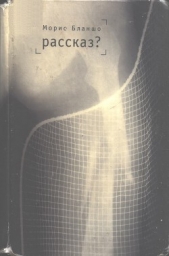Мишель Фуко, каким я его себе представляю

Мишель Фуко, каким я его себе представляю читать книгу онлайн
Морис Бланшо (р. 1907) — крупнейший французский писатель и мыслитель ушедшего века, оказавший огромное влияние на современную гуманитарную мысль. Эссе «Мишель Фуко, каким я его себе представляю» (1986) парадоксальным образом объединяет панораму творчества Фуко, целостное описание ландшафта его мысли и неожиданное, трогательное в своей сдержанности признание в дружбе. Вошедшая в приложение рецензия написана Бланшо по случаю выхода в свет одного из интеллектуальных бестселлеров XX века, знаменитой «Истории безумия» — тогда еще «практически первой» книги безвестного автора.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Итак, переход от «кровности» к «сексуальности». Его двусмысленным свидетелем и знаменитым показателем является Сад. Для него важно только удовольствие, в счет только приказы наслаждения и неограниченные права сладострастия. Пол — единственное Благо, и Благо отрицает любое правило, любую норму, кроме (и это важно) той, которая оживляет удовольствие удовлетворением от ее нарушения, будь то ценой смерти других или же пьянящей собственной смерти — смерти предельно счастливой, без раскаяний и забот. Фуко говорит об этом: «Кровь поглотила секс». Заключение, которое меня, тем не менее, удивляет, поскольку Сад, этот. аристократ, который — в своем творчестве еще более, чем в жизни — принимает аристократию в расчет, только чтобы извлечь из этого удовольствие, над ней поглумившись, довел до непревзойденной точки суверенность секса. Если в своих снах или фантазиях он находит удовольствие в убийствах и нагромождении жертв, чтобы отбросить ограничения, налагаемые на его желания обществом и даже природой, если он находит удовольствие в крови (но меньше, чем в сперме или, как он ее называет, «малофье»), его в то же время ничуть не заботит поддержание кастовости по принципу чистой или высшей крови. Совсем наоборот: Общество Друзей Преступления сошлось отнюдь не на почве стремления к смехотворной евгенике; избавиться от официальных законов и объединиться на основе секретных правил — такова холодная страсть, представляющая первенство сексу, а не крови. Мораль, которая, стало быть, отменяет или думает, что отменяет, фантазмы прошлого. Так что невольно испытываешь искушение сказать, что с Садом секс обретает власть; это естественно означает также, что отныне и власть, и политическая власть начнут действовать, исподволь используя механизмы сексуальности.
Смертоносный расизм
Именно вопрошая самого себя о переходе от общества крови к обществу, где секс навязывает свой закон, а закон пользуется сексом, чтобы навязать себя, и замечает Фуко, что в очередной раз находится на очной ставке с тем, что осталось на нашей памяти величайшей катастрофой и величайшим ужасом нового времени. «Нацизм, — говорит он, — был комбинацией самой наивной и самой изощренной — одно из-за другого — фантазмов крови с пароксизмом дисциплины». Кровь — конечно же, — превосходство через возвеличивание чистой от любой примеси крови (биологический фантазм, скрывающий право на господство, даруемое гипотетическому индоевропейскому обществу, высшим проявлением которого было бы общество германское), обязательство спасти отныне это чистое общество, подавляя все остальное человечество и прежде всего неуничтожимое наследие библейского народа. Проведение геноцида в жизнь нуждается во всех формах власти, включая сюда и новые формы некой биовласти, стратегии которой насаждают идеал размеренности, метода, холодной решимости. Люди слабы. Они в состоянии совершить худшее, лишь не замечая его — до такой степени, что к нему привыкают и находят себе оправдание в «величии» строгой дисциплины и приказах неоспоримого вожака. Но в гитлеровской истории сексуальные экстравагантности играют лишь второстепенную и тут же подавляемую роль. Гомосексуализм, выражение воинского товарищества, послужил для Гитлера лишь предлогом для уничтожения непокорных банд, хотя ему и служивших, но не подчиняясь дисциплине, а все еще находя следы буржуазного идеала в аскетическом послушании, будь то и режиму, утверждающемуся сверх всякого закона, поскольку он и был самим законом.
По мнению Фуко, Фрейд предчувствовал, что для предотвращения распространения механизмов власти, которыми чудовищно злоупотребит смертоносный расизм (контролируя все, включая сюда и повседневную сексуальность), необходимо будет вернуться назад, и это с инстинктивной уверенностью, благодаря которой он стал видным противником фашизма, привело его к восстановлению античного закона брачного союза, «запрета на кровное родство, закона Отца-суверена»: одним словом, он в ущерб норме передал «Закону» предыдущие права, не сакрализуя тем не менее запрет, то есть репрессивный устав, а заботясь лишь о демонтировке его механизма или демонстрации истоков (цензура, вытеснение, сверх-я и т. д.). Отсюда двусмысленный характер психоанализа: с одной стороны, он позволил нам открыть или переоткрыть важность сексуальности и ее «аномалий», с другой, он созывает вокруг Желания — скорее, чтобы его обосновать, чем объяснить — весь древний брачный распорядок и тем самым не приближается к современности, образуя даже некий замечательный анахронизм — то, что Фуко называет «обратным историческим загибом», наименование, опасность которого не останется им не замеченной, поскольку оно, вроде бы, сделает его приемлемым для исторического прогрессизма и даже для историзма, от которого он весьма далек.
Страсть говорить о сексе
Быть может, пора сказать, что в своей работе над «Историей сексуальности» Фуко не ведет против психоанализа борьбы, которая оказалась бы смехотворной. Но он не скрывает своей склонности видеть в нем лишь завершение тесно связанного с христианской историей процесса. Исповедь, признание, суд совести, медитации о развращенности плоти помещают в центр существования сексуальную значимость и в конечном счете развивают самые странные соблазны некой рассеянной по всему человеческому телу сексуальности. Воодушевляешь то, что хотел обескуражить. Даешь слово тому, что до сих пор оставалось безмолвным. Платишь уникальную цену за то, что хотел подавить, превращая его в одержимость. От исповедальни к дивану аналитика пролегли столетия (ибо нужно время, чтобы совершить каждый шаг), но от проступков до наслаждения, потом от проборматывания секретов к нескончаемой болтовне обнаруживается одна и та же страсть говорить о сексе, одновременно чтобы от него освободиться и чтобы продлить его навсегда, словно единственное, что нам доступно в намерении сделаться хозяином своей самой драгоценной истины, это консультироваться, консультируя других в проклятой и благословенной области уникальной сексуальности. Я выписал некоторые фразы Фуко, в которых он выражает свою истину и свой нрав: «Мы, в конце концов, единственная цивилизация, в которой нанимают людей для того, чтобы выслушивать, как каждый откровенничает касательно своего секса… они сдают в наем свои уши». И особенно следующее ироническое суждение о том значительном времени — прошлом и, быть может, утраченном, — что ушло на переложение секса в дискурс: «Быть может, однажды удивятся. Не смогут понять, как некая цивилизация, столь преданная вместе с тем развитию огромных аппаратов производства и разрушения, отыскала время и бесконечное терпение для столь обеспокоенных расспросов самой себя о том, что в нее заложено от секса; улыбнутся, быть может, вспоминая, что эти люди, а были ими мы, верили, будто с этой стороны открывается истина по меньшей мере столь же драгоценная, как и та, за которой они уже обращались к земле, звездам, к чистым формам мысли; удивятся страсти, с которой мы стали притворяться, что вырываем сексуальность из ее собственной тьмы, сексуальность, которую всё — наш дискурс, наши привычки, наши институты, наши уставы, наши знания — порождало среди бела дня и с треском отбрасывало». Маленький фрагмент панегирика навыворот, где Фуко, кажется, в первой же книге своей «Истории сексуальности» хочет положить предел тщетным предубеждениям, которым он предполагает, однако, посвятить заметное количество томов, так в конце концов им и не написанных.
О мои друзья
Он будет искать и найдет выход (это было, в общем и целом, средство остаться генеалогистом, ежели не археологом), удаляясь от нового времени и вопрошая Античность (особенно античность греческую — свойственное нам всем искушение «припасть к истокам»; почему бы не древнее иудейство, где сексуальность играла важную роль и где находит свои истоки Закон?). С какой целью? С виду — чтобы перейти от пыток сексуальности к простоте удовольствий и осветить новым светом проблемы, которые они тем не менее ставят, хотя и привлекают внимание свободных людей в существенно меньшей степени, избегая счастья и скандала, свойственных запретному. Но я не могу отказаться от мысли, что, вместе с «Волей к знанию», вызванная этой книгой бурная критика, воспоследовавшая за нею своего рода охота на дух (достаточно близкая к «охоте на человека») и, быть может, личный опыт, о котором мне дано лишь догадываться и которым, я думаю, в неведении о том, что собой представляет (крепкое тело, перестающее таковым быть, тяжелая болезнь, которую он едва ли предчувствовал, наконец, приближение смерти, раскрывшее его не к тоске, а к удивительной новой ясности), был поражен и он сам, глубоко изменили его отношение ко времени и письму. Книги, которые он составит на, как бы там ни было, непосредственно касающиеся его темы, суть, на первый взгляд, скорее творения дотошного историка, нежели плод личностных изысканий. Даже стиль в них иной: спокойный, умиротворенный, без воспламенявшей, как правило, другие его тексты страсти. Беседуя с Хубертом Дрейфусом и Полом Рабиноу[3], в ответ на вопрос о своих планах он вдруг восклицает: «О, сначала я займусь собой!» Слова, разъяснить которые нелегко, даже если чуть поспешно и решить, что вслед за Ницше он склонен отыскать у греков скорее не гражданскую мораль, а индивидуальную этику, которая позволит ему сделать из своего существования — из того, что ему осталось прожить, — произведение искусства. Так, например, он подвергнется искушению спросить с Древних перерасчета, восстановления ценности дружеских практик, которые, не теряясь, обретали свои высокие достоинства разве что лишь кое у кого среди нас. Philia, остающаяся у греков и даже римлян образцом превосходного в человеческих отношениях (с тем таинственным характером, который придают ей противоположные требования, сразу и чистая взаимность и безответная щедрость), может быть принята как всегда открытое к обогащению наследие. Дружба была, может быть, обещана Фуко как последний дар — вне страстей, проблем мысли, жизненных опасностей, которые для других он предчувствовал лучше, чем для самого себя. Свидетельствуя в пользу творчества, нуждающегося более в изучении (непредвзятом прочтении), нежели в прославлении, я думаю, что остаюсь верным, пусть и неумело, интеллектуальной дружбе к нему, которую его смерть, такая для меня мучительная, позволила мне сегодня обнародовать: и вот, я вспоминаю слова, приписываемые Диогеном Лаэртским Аристотелю: «О мои друзья, где взять друга».