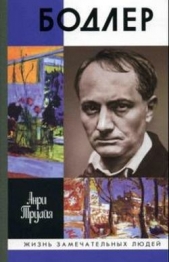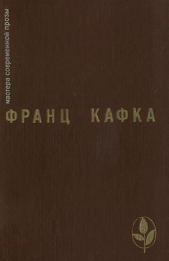Гибель всерьез
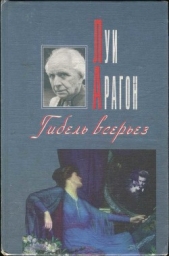
Гибель всерьез читать книгу онлайн
Любовь и смерть — вечная тема искусства: Тристан и Изольда, Джиневра и Ланселот, Отелло и Дездемона… К череде гибельно связанных любовью бессмертных пар Луи Арагон (1897–1982), классик французской литературы, один из крупнейших поэтов XX века, смело прибавляет свою: Ингеборг и Антуана. В художественную ткань романа вкраплены то лирические, то иронические новеллы; проникновенная исповедь сменяется философскими раздумьями. В толпе персонажей читатель узнает героев мировой и, прежде всего, горячо любимой Арагоном русской литературы. Но главное действующее лицо "Гибели всерьез" — сам автор, назвавший свой роман "симфонией зеркал, галереей автопортретов художника в разных ракурсах".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я никогда не настаивал, а она всегда уклонялась от чтения моих произведений, но на этот раз я решил, пусть она прочтет пять-шесть страниц, непосредственно касающихся ее, утаив, разумеется, убийственные замыслы относительно Антоана. Не могу же я писать о музыке и хранить все это про себя, живя рядом с Омелой. Она должна меня понять. А может, уже поняла? Она пообещала прочитать после завтрака, но оказалось, что забыла про гостей, а они пришли навестить ее… потом необходимые покупки… А вечером уже так устала… Однако наутро я опять появился, держа в руках рукопись и упрямо набычив лоб. Ну, так и быть. Она смирилась со своей участью. А все-таки, за что она напала на Стендаля?
«Стендаль, — пояснила она, — тщится истолковать музыку, как истолковывал живопись, но сегодня, при всем уважении к классику, такие суждения безнадежно устарели. Он говорил о «творческом начале пения», и его заслуга в самой постановке вопроса. Но как мы можем знать, справедливы или нет его слова по сути, если о вокальном искусстве тех времен до нас дошли только словесные оценки! Мы еще можем представить себе, как пели Карузо, Шаляпин, Лина Кавальери, хотя записи оставляют желать лучшего. В будущем дискотеки дадут возможность сравнивать голоса, талант, технику и души тех современных певцов, которые, как говорила Малибран, «умеют петь музыку», я люблю это выражение. Но певцы прошлого… И даже сама Малибран, хотя, знаете…»
И тут зеркало обратилось к ней самой, воодушевленной искусством Малибран. Мы сидели в рабочем кабинете Омелы возле большого книжного шкафа из ландской сосны и электрического пианино — забыл, как оно там называется, — на котором она обычно что-то наигрывает, когда читает. Омела откинулась в своем кресле темно-красной кожи, на столике рядом телефон — злая собачонка, которая только и ждет самого неподходящего мига, чтобы прервать хозяйку; большой квадратный пуф, который превращает кресло в шезлонг, она отодвинула и позволили мне сесть на него. Вернее, я сам пристроился, как люблю, на коленках. Она сказала:
— Стендаль, да, конечно… а помнишь Мюссе?
Я без запинки процитировал:
— Могла ль ты «Иву» петь, бледнея, Дездемона?
Какие другие стихи могли мне прийти на память у ног Ингеборг? Она улыбнулась, моя Дездемона. Улыбка призрачная, отсутствующая. Сердце ее не слышит, что и вместе с Мюссе, и без него я думаю только о ней. Она грезила о Мари Малибран. Я не сразу понял, почему Омела вспомнила эти стихи, но она попросила меня взять книгу и прочитать ровно восемнадцать строк, не больше, «я не помню их наизусть, прочитай, пожалуйста» — она сказала мне «ты», будто Антоану. Строфы XXI, XXII, XXIII:
Людскую черствость ты ужель так мало знала?
Им всю себя отдать — то было ли мечтой?
Ужель букетов лесть тебя так вдохновляла,
Что с искренней слезой на сцене ты играла,
Когда любой актер, прославленный молвой,
Не увлажнил бы глаз притворною слезой?
Скрывала ли ты смех, склонив свою головку,
Как это делают, чтоб выразить волненье?
Увы! Хотя тебе простили прегрешенье,
Могла ль ты «Иву» петь, — вокальные уловки, —
Не чувства, не восторг, выпячивая ловко,
Как Паста делала, любя свое лишь пенье.
Я остановился, мне показалось, я все понял. Она сказала с упреком: «Я просила восемнадцать строк… читайте же, читайте…»
Актриса, полная, как жизнь, самозабвенья,
Ужель не знала ты, что сердца стон и крики
Ложатся на лицо, как меловые блики,
Что к скорби страсть твоя — для Бога искушенье
И с каждым днем Его перстов прикосновенье
Все ощутимее на тонком, бледном лике?
[132]
Я отложил книгу и смотрел на нее: отсутствующий взгляд, широко открытые глаза, щека привычно и мечтательно приникла к левой ладони, словно Ингеборг сосредоточенно слушала свои мысли, потом она отерла глаза, которые вовсе не плакали.
«Имя Паста, — заговорила она, — остановило вас, мой друг, потому что, я думаю, вам показалось, будто меня может задеть сравнение Мюссе. Но я хотела сказать не об этом… Кто прав, Стендаль или Мюссе, который судит восемнадцать лет спустя, не имеет значения… Я думаю, сама Малибран, живя в том мире и им воспитанная, прекрасно понимала пристрастие тогдашней публики к трелям, переливам, техническим ухищрениям в пении. Именно по ним судили тогда о творческом лице, заслугах певца. И Мария Гарсия в дуэте с каким-нибудь тенором или желая превзойти соперницу, подтверждала свое искусство, обогащая и расцвечивая написанное на бумаге, но главным для нее было другое. В те времена считали, и вполне справедливо, что безотчетные порывы души вредят красоте пения. Отзывы о Паста позволяют предположить, что ее искусство состояло в безупречном владении собой, она была, так сказать, великолепным инструментом и позволяла себе только вокальные модуляции. Мадам Малибран и голосом, и искусством была равна Паста, но, помимо вокальной акробатики, у нее был священный дар слез, на что в те времена певица не имела права, и слезы текли по ее лицу, не меняя прозрачности голоса. Графиня Мерлин, ее подруга-креолка, пишет, что однажды спросила ее о тайне этого дара, и Малибран ответила, что начало всему положил страх перед отцом (тяжелейший был человек, который, говорят, даже бил ее на уроках), страх перед ним научил Мари не передавать голосом движений сердца, она плакала, стоя во время уроков позади Мануэля Гарсия, чтобы он не видел ее слез. Этот рассказ потряс меня в юности и трогает до сих пор. Благодаря ему Малибран стала мне ближе многих других певиц прошлого. Нет, меня не тиранил отец и учителя тоже: в наши времена уже не нужно быть акробатом в вокале, и если во время пения у меня на глазах выступали слезы, значит, душевная боль присоединялась к музыке. Услышьте и поймите меня правильно, Альфред: моим учителем и палачом стал век, в котором мы живем, он постоянно дает мне горчайшие уроки страдания, хотя если верить Мюссе, то «к скорби страсть — для Бога искушенье». В пении, наряду с техникой, как вы любите говорить, стилем, для меня было важным, самым важным, то глубинное чувство, от которого рождаются слезы, пусть даже они и не текут по щекам. Я научилась не плакать, а так, может быть, еще больнее… Суровость отца, мавра из Гранады, каким был Мануэль Гарсия, — что она по сравнению с жестокостью уроков, преподносимых миром, в котором мы живем! Их вспоминаю я, когда пою. Как вы думаете, за кого я молюсь, когда пою Элеонору в «Трубадуре»? В мире столько горя, что есть простор для догадок. Боже мой, мне не дано было миновать ни одного кровоточащего источника вдохновения, и страдание становилось музыкой, душераздирающей музыкой… Вы заметили, нам ничего или почти ничего не ведомо о внутреннем мире величайших певцов прошлого; говоря о них, все довольствовались оценкой силы и качества их голосов, словно они были механическими соловьями. А мое ощущение Малибран возникло вовсе не благодаря стихам Мюссе, хотя они очень хороши, а благодаря ее восторженному письму из Англии другу во Франции, когда она узнала об июльской революции («Поверьте, одна мысль о Париже — и душа моя воспаряет…»), где она так говорит о народе Франции: «Я хочу разделить судьбу моих братьев. Говорят, если хочешь благотворить, начни с самого себя, но я сама — это и есть другие». Слова ее действуют на меня сильнее музыки и до сих пор вызывают на глаза слезы: «я сама — это и есть другие»… Сколько должно было быть в ней сердца, если она нашла такие слова! Как благородно она понимала свой долг в искусстве!»