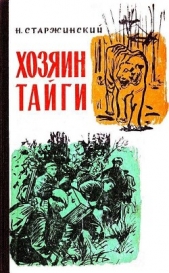Это случилось в тайге (сборник повестей)

Это случилось в тайге (сборник повестей) читать книгу онлайн
Анатолий Клещенко — ленинградский прозаик и поэт. Первые стихи его были опубликованы в 1937 году, затем он долгие годы работал на Северном Урале и в Приангарье на лесозаготовках, на рудниках, занимался промысловой охотой. Вернувшись в Ленинград, Клещенко становится профессиональным писателем, он автор нескольких стихотворных сборников и ряда прозаических книг. В декабре 1974 года А. Клещенко трагически погиб на Камчатке, где он последние шесть лет работал охотинспектором, собирал материал для своих новых книг.
В эту книгу вошли повести «Распутица кончается в апреле», «Дело прекратить нельзя», «Когда расходится туман» и «Это случилось в тайге». Действие всех повестей происходит в Сибири, герои Клещенко — таёжники, охотники, исследователи. Повести остросюжетны. В обстоятельствах драматических и необычайных самыми неожиданными гранями раскрываются человеческие характеры. Природа в повестях Клещенко поэтична и сурова, — писатель отлично читает ту сложную книгу жизни, в которой действуют его герои. Проза Клещенко — мужественная, добрая и человечная.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Знал и Стуколкин.
Дружок Воронкина — «зверек» Закир Ангуразов — был его немногословным, по верным подголоском. Предпочитал держаться в тени, за него все решал Костя.
Пятый, самый молодой из всех, — харьковчанин Ганько, по кличке Хохол, с чистыми девичьими щеками, — не выпускал из рук карт. Водку он пил, чтобы не казаться белой вороной в стае, похмелье переносил особенно трудно.
Вместе этих разных людей свел случай, а умирающая темная традиция заставила играть в дружбу, в товарищество. Кто они в самом деле? Волки, вынужденные спрятать клыки, или только представляющиеся волками шавки, как считает Стуколкин?
По собственному опыту Виктор Шугин понимал, до чего трудно судить об этом.
Да он и не пытался судить. Главное — остальные считали его волком. Может быть, один Стуколкин сомневался, но молчал. И все поджимали перед ним хвосты. Большего ему не требовалось.
Досрочное освобождение он принял как случайный выигрыш. Они также, наверное. Но что делается в их душах теперь — Виктор не знал, не пытался узнать. Никто не открывает козырей до конца игры, не позволяется заглядывать в чужие карты. Значит, все идет своим чередом…
Оживление, вызванное возвращением в тепло и хоть скудным, но все-таки ужином, гасло очень скоро. Впереди ждал долгий осенний вечер, который следовало занять чем-то.
Чем?
Не хочется отворять двери в промозглую тьму, чтобы выбросить окурок. Хлюпать в этакой тьме по грязи в деревню не хотелось тем более. Да и что за радость идти туда? Киносеансы запретили, немногочисленные чарынские девчата убегают по вечерам в клуб, в сельпо без денег водку не отпускают.
До клуба, до Сашкова — тринадцать верст, чертова дюжина. Конечно, в клубе весело: почти каждый день кино, танцы под радиолу. Можно познакомиться с хорошенькой девчонкой, есть такие в Сашкове. А что, если махнуть все же туда?
Начав традиционной руганью, Костя Воронкин изрекает фразу, тоже ставшую традиционной:
— С этой зарплаты надо будет лёпень купить.
Лепень, лепенец, лепеха — так на воровском жаргоне именуют костюм.
Помолчав, он замечает насмешливые ухмылки товарищей и начинает горячиться:
— Свободы не иметь, куплю! Не в чем в деревню показаться, надоело…
— Значит, после получки обмывать будем? — с фальшивым добродушием спрашивает Ганько.
Стуколкин подмигивает ему:
— А как же иначе? Только ты, Костя, не торопись его надевать. Поношенный не возьмут обратно, когда тебя похмелье начнет ломать.
— Я на похмелье у тебя поищу грошей. Ты, наверное, еще с прошлой зарплаты зажал?
— Поищи! Поищи! — Стуколкин ласково кивает. — Лапы у тебя длинные, вполне по локоть секануть можно.
— Ты, что ли, секанешь?
— Я, милый. Попробую…
— А ну, пробуй! Пробуй, или я тебя…
Протягивая руки, Воронкин подступал к Цыгану. За ним, сверкая голубоватыми белками, молча поднимался Ангуразов.
Успокаивал их Шугин:
— Кончайте шумок, вы! С чего заводитесь, идиоты?
Стуколкин — как ни в чем не бывало — только пожимал плечами. Воронкин утихал неохотно, долго.
— Делать нечего больше, твари? — упрекал его Виктор.
Делать было нечего, разве играть в карты.
Первым об этом, как правило, вспоминал Ганько. Положив перед собой затасканную подушку, по-казахски усаживался на койке. Согнув колоду, чтобы пружинила, ловким нажимом пальцев заставлял карты с шелестом перемещаться из правой ладони в левую. Впрочем, жонглировать картами умели все пятеро.
Начиналась игра.
Играли под будущую зарплату — больше не на что было играть. Неуплата карточного долга наказуется изгнанием в «железный ряд», потерей всех прав «честного вора». Поэтому игра всегда протекала напряженно и страстно — за нею стояли верные деньги. Цену каждого рубля увеличивало сознание, что он не краденый, а заработан в поте лица.
Брань, фантастичная своей изощренностью, никого не оскорбляла, воспринимаясь как припев в песне. Угрозы не пугали. Истерики не беспокоили.
Таким был ритуал игры.
Ритуал соблюдался не только при игре в карты. Поступки, разговоры и жесты даже — все выдерживалось в единожды установленном каноне. Все должно свидетельствовать, что нечем дорожить в жизни, ничто не должно трогать сердца, сердца не существует.
Никто из пятерых не рассказывал о прошлом, если оно не касалось краж или странствий по тюрьмам. Как будто у людей никогда не было родных, отчего дома, а жизнь начиналась с первого привода в милицию. Правда, порой вспоминали женщин — как вспоминают выпитую бутылку водки, невесть куда брошенную или разбитую о камень.
Все человеческое считалось слабостью, унижало, заслуживало только насмешки и презрения.
Люди не хотели казаться людьми.
Они похвалялись друг перед другом звериными повадками, гордясь ими.
И некому было научить их иной гордости.
Именно об этом разговаривали Фома Ионыч и Латышев, инженер по лесоустройству, обходя лесосеку.
Мастер никогда не чувствовал себя способным учить там, где речь шла не о сортности древесины, технике валки, леса или ледяных дорогах. Считал, что всему остальному должны учить люди более грамотные. За собой он оставлял право иногда наставлять внучку. Наставления сводились к одному — поступать, советуясь с совестью.
В то, что у присланных под его начало лесорубов имелась совесть, Фома Ионыч не верил. И все-таки, изменив обыкновению, попробовал однажды вмешаться:
— Поменьше бы вам заглядывать в бутылку, ребята…
Ему ответили коротко:
— Поменьше бы ты совался не в свое дело, мастер. Пьём на свои. Ну и… заткнись! Понял?
Фома Ионыч не нашелся, чтобы ответить достойно. Махнул рукой. Он никогда не отличался умением говорить. Наоборот, слов всегда не хватало его чувствам и мыслям.
В 1917-м помалкивал, слушая красивые фразы о войне до победного конца, — и воткнул штык в землю. Потом, тоже молчком, вновь взял винтовку, пошел отстаивать в гражданской войне мир. В партию большевиков записался, потому что там был Ленин. Но ни разу он не произносил речей, не провозглашал лозунгов, незаметный, рядовой солдат и чернорабочий революции. Красно говорить он так и не научился.
Инженер Латышев знал это:
— Трудно тебе с ними, Фома Ионыч. Понимаю. Но ведь на участке работают как-никак семнадцать человек. Коллектив!
— Коллектив? — мастер вздохнул, полез за кисетом. — Коллектив — он у нас, Антон Александрович, в лесосеке. Сам знаешь, кто валит, кто возит. Всяк своим занят. А после работы коллектив домой подается, в Чарынь.
— Да-а… — раздумчиво процедил Латышев сквозь поджатые губы.
Он хотел развести руками, но правая оказалась в кармане — искала спички. На растопыренные пальцы левой инженер посмотрел так, словно это были пять лесорубов, с которыми надо что-то придумывать.
— Сопьются мужики. А от водки и до тюрьмы недалеко. Работают, говоришь, ничего?
— Работают как надо. Да что работа? В бараке-то сидеть вовсе тошно, а так хоть поразомнутся малость. Лошадь — и та из конюшни рысью бежит, ежели застоится. Опять же деньги — водку бесплатно не дают.
Миновав пасеку второй очереди, по правилам техники безопасности разделяющую те, на которых ведется рубка, они подошли к костру. Невидимый за густым дымом сучкожог только что завалил на огонь охапку еловых лап. Пламя накинулось на них с жадностью. Трескотня охваченных им хвоинок походила на треск разрываемой материи. В клубах черного дыма на оранжевом стебле взметнулся рассыпающим семена огненным цветком сноп искр.
Латышев попятился, отмахиваясь от их укусов.
— Как дела? — громко, стараясь перекричать треск костра, поинтересовался он. — Идут?
Сучкожог отвел от лица руку в рваной верхонке, Фома Ионыч узнал Стуколкина.
— А ты попробовал бы, начальник! Спецовку вот на два года даешь, а ее через полгода в утиль не примут. Зола останется.
— Я спецовки не даю, — сказал инженер.
— Значит, твоя хата с краю?
Латышев помолчал. Что ему скажешь? Действительно, тут никакая спецодежда двух лет не выдержит. Но ведь сроки носки не им установлены.