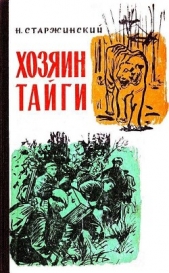Это случилось в тайге (сборник повестей)

Это случилось в тайге (сборник повестей) читать книгу онлайн
Анатолий Клещенко — ленинградский прозаик и поэт. Первые стихи его были опубликованы в 1937 году, затем он долгие годы работал на Северном Урале и в Приангарье на лесозаготовках, на рудниках, занимался промысловой охотой. Вернувшись в Ленинград, Клещенко становится профессиональным писателем, он автор нескольких стихотворных сборников и ряда прозаических книг. В декабре 1974 года А. Клещенко трагически погиб на Камчатке, где он последние шесть лет работал охотинспектором, собирал материал для своих новых книг.
В эту книгу вошли повести «Распутица кончается в апреле», «Дело прекратить нельзя», «Когда расходится туман» и «Это случилось в тайге». Действие всех повестей происходит в Сибири, герои Клещенко — таёжники, охотники, исследователи. Повести остросюжетны. В обстоятельствах драматических и необычайных самыми неожиданными гранями раскрываются человеческие характеры. Природа в повестях Клещенко поэтична и сурова, — писатель отлично читает ту сложную книгу жизни, в которой действуют его герои. Проза Клещенко — мужественная, добрая и человечная.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Больше других Настя жалела Шугина.
Женское сердце всегда подкупает превосходство одного над многими. О подоплеке шугинского превосходства Настя ничего не знала. В «разбойничьем», по словам деда, взгляде читала то ли грусть, то ли горечь. Так ей казалось, по крайней мере.
По ее мнению, пьянствовал Шугин меньше остальных. И реже ругался нехорошими словами.
Только это она и смогла бы сказать, покамест ранение не приковало Шугина к бараку. Поневоле станешь приглядываться к человеку, если он все время перед тобой.
В первые же дни девушке стало ясно, что у него два лица. Одно — чем-то смущенное, нравящееся. С затененными длинными ресницами глазами, печальными морщинками в углах тонких губ. Лицо обиженного человека.
С возвращением в общежитие рабочих оно пропадало куда-то, подменялось другим. Холодным, настороженным, с вечным насмешливым прищуром глаз и усмешкой одной половинкой рта. Лицо человека, намеренного оскорбить, обидеть.
Сначала Настя думала: Шугин не любит своих товарищей, они раздражают его. Но потом стало казаться, что он с нетерпением ждет их возвращения, тяготясь ее обществом. Видимо, скучно с ней? Тогда, считая себя сиделкой у постели больного, девушка решила больше уделять внимания ему, развлекать, подбадривать.
Делала это как умела.
По-своему.
Не зная, чем лучше заинтересовать, рассказывала обо всем, когда-либо остановившем внимание. Настя считала себя необычайно мудрой утешительницей. Старалась так строить разговоры с больным, чтобы Шугин черпал в них бодрость и терпение. Примером должны служить люди, в подобных случаях терявшие больше его.
Хитрости были удивительно бесхитростными.
Словно ненароком вспоминала, что Фома Ионыч однажды рассадил косой ногу накануне открытия охоты. Ждал этого дня, как праздника. Чуть не за два месяца готовиться начал. И пожалуйста! Пришлось перебинтовать ногу, чуть не выше головы задрать. Кровь никак не могли остановить иначе. А дед знает одно — ругается. Ведь в лесу-то — восторженно полузакрыв глаза, девушка представляла себе августовский лес, еще щедрый на запахи и цветы, — в лесу-то!.. Торопясь, рассказывала о взлетающих из-под самых ног тетеревах и глупых еще глухарятах, уверенных, будто неподвижность делает их невидимыми. Как деду не ругаться? Хоть всего два охотника в деревне, а пойдут — не перебьют выводки, так разгонят!
В паузе, якобы невольной — надо-де сходить по воду или растопить плиту, — Шугину полагалось прочувствовать бездонную глубину горя Фомы Ионыча. Гремя ведрами, девушка исподтишка взглядывала на него: понял ли?
И только после этого, как ей думалось, утешала: к деду пришли охотники, Иван Васильевич Напенкин и бригадир Горшков, без ружей. Пришли, чтобы сказать: «Дедко Фома, решили тебя подождать. Пусть подрастут тетерева. Чтобы не обидно тебе дома сидеть одному».
Взгляд ее светился торжеством: каково? Стоит ли мучиться и переживать, если, в конце концов, все складывается благополучно?
Или случай с Наташкой Игнатовой в Сашкове. Жалко, что Виктор не знает Наташку. Первая красавица, а плясунья — на областной смотр два раза ездила! Вот той не повезло так не повезло: перед самым маем упала с крыши. Антенну полезла ставить, приемник купили Игнатовы. Ну и сломала ребро. В клубе выступать надо, шефы должны приехать, а ей с постели не встать. Так что он думает? — сашковские девчонки вместо клуба пришли к Наташке праздник встречать. Натащили кто чего мог. И не танцевали, только что песни пели весь вечер…
Настины рассказы целительным бальзамом не проливались. Шугин томился, кусал губы. Не сознавая того, девушка открывала ему новый, совершенно неведомый доселе мир. Не дерзость и не сила управляли взаимоотношениями живущих в нем.
Люди, населявшие его, совсем не походили на известных ему прежде.
Этот мир был как ярко освещенная витрина игрушечного магазина в детстве. Отгороженный от действительности стеклом. Недоступный и непонятный.
Дороги туда Шугин не знал, не собирался искать.
— Брось! — болезненно кривясь, приказывал он.
А помолчав, опалив губы жадно докуренной до самого конца папиросой, просил:
— Настя! Ты чего молчишь? Тисни чего-нибудь про своих тетеревов, что ли…
Девушка терялась — сбивали противоречия в его настроениях. Но ведь больным следует потворствовать, даже когда они капризничают. И опять Настя, думая успокоить, бередила ему душу. Опять заставляла заглядывать туда, где просто, без надрыва и наигрыша, жили люди, занимаясь вроде бы неинтересными, но почему-то будящими зависть делами. Трудные будни здоровой веселой молодости выглядели праздниками. Вечера перешептывались и пересмеивались в синем сумраке голосами гуляющих по деревне парочек, ничего не боящихся, ни от кого не прячущихся. По утрам у колодцев девчата обливали водой парней, не вовремя пристающих с любезностями. Языкатые бабы отпускали беззлобные шуточки вслед пострадавшим. Точно, без промаха били в цель озорные частушки…
И опять, кусая губы, Шугин отмахивался:
— Брось!
Очень хотелось уверить себя, что все это не интересует. Подумаешь, жизнь! Да что она видела хорошего, девчонка?
А что видел он?
Ну что?
Его мутило от раздражения, причины которого он не знал. Но возвращались с работы лесорубы — и все становилось на свое место. Подхватываемый течением, он с радостью отдавался ему. Только временами беспокоило чувство, что это — именно течение. Зыбкое, неверное.
Можно держаться на поверхности, делая какие-то усилия. Можно плыть.
Но опоры, дна под ногами не было.
Прорва, пучина.
Наедине с Настей, испытывая болезненное раздражение от ее рассказов, Шугин не находил себе места. Метался, не зная, куда девать себя. Но плыть по течению, удерживаясь на поверхности, — это уже требовало какой-то целеустремленности, даже если впереди не существовало цели. Это позволяло пристроить себя куда-то, пусть ненадолго.
Ребята приходили злые, ругая бога, в которого не верили, переругиваясь друг с другом. Сбросив ватники, начинали варить картошку, выручающую в дна безденежья после пьянок. Картошку воровали на полях в Чарыни. Только Стуколкин, во избежание соблазна всегда покупавший в запас крупу, макароны и сахар прежде, чем первую бутылку водки, стряпал особо. Заботу о пропитании больного Шугина он решил взять на себя. Без просьб или принуждений, по доброй воле.
Стуколкин — иначе Никола Цыган — был самым пожилым и, наверное поэтому, самым спокойным. Единственный из всех, он не стеснялся говорить иногда, что пора «завязывать».
— Разве вы босяки? — издевался он, по очереди сверля каждого острыми, в самом деле цыганистыми глазами. — Украсть любая шпана может, это еще не гор — украсть… А вам только картошку и воровать, иначе с голодухи сдохнете…
Шугин догадывался: Стуколкин хочет дотянуть до весны, получить расчет и сразу же уехать куда-то далеко. Чтобы оторваться от воров, затеряться в людской сутолоке, притихнуть.
Шугин тоже не воровал картошку. Зачем, если это другие делают? Но Стуколкин не потому выделял его из числа остальных.
— Заблудился ты, малый! — сказал он как-то. — В трех соснах. В цвет тебе гадаю, я ведь цыган.
Играя в карты, Стуколкин всегда выигрывал. Потом, когда остальные проигрывались, пропивались вконец и в похмельной тоске облизывали шелушащиеся губы, он опохмелял их, посмеиваясь:
— За ваши же гроши, без убытка!..
Сам или пил меньше других, или водка его не брала.
Наиболее приверженным к пьянству был Костя Воронкин. Ростовчанин, отбывавший меру наказания на Севере, он с еще большим, чем другие, нетерпением ожидал весны. Теплого попутного ветра.
Шебутной — была его воровская кличка. Он заслужил ее за крикливость, скандальность. Может быть, поэтому не любил уравновешенного, сдержанного Стуколкина.
— Сука, кого он учит? За меня люди скажут, босяк я или нет? Витёк, я что? Сявка? Да я ему, падлюке, пасть порву!
Шугин знал цену таким истеричным выкрикам — не много они стоили.