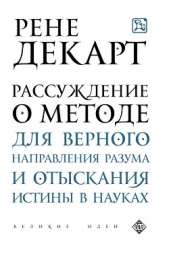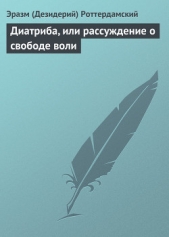Алексис или Рассуждение о тщетной борьбе

Алексис или Рассуждение о тщетной борьбе читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однажды сентябрьским вечером, накануне нашего отъезда в Вену, я поддался соблазну, влекшему меня к фортепиано, которое все это время стояло закрытым. Я был один в полутемной гостиной; случилось это, как я уже сказал, в последний вечер перед отъездом из Вороино. Уже в течение многих недель меня снедали какая-то физическая тревога, лихорадка, бессонница; я пытался с ними бороться, виня во всем наступившую осень. Бывают мелодии, такие свежие, что ими можно утолить жажду, так, по крайней мере, я думал. И начал играть. Я играл; сначала осторожно, тихо, бережно, словно хотел убаюкать собственную душу. Я выбирал самые умиротворяющие пьесы, чистое зеркало духа, Дебюсси и Моцарта, - казалось, я, как когда-то в Вене, боялся будоражащей музыки. Но моя душа, Моника, не хотела забыться сном. А может, то была и не душа. Я играл рассеянно, продлевая тишиной звучание каждой ноты. То был (я уже упомянул об этом) мой последний вечер в Вороино. Я знал, что мои руки никогда больше не коснутся этих клавиш, никогда больше не наполнят звуками эту комнату. В своих физических страданиях я видел зловещее предзнаменование: я решил, что не стану противиться смерти. Отдавая душу вершинам арпеджио, как отдают тело готовящейся опасть волне, я ждал, что музыка поможет мне рухнуть в бездну и в забвение. Я играл, изнемогая. Я говорил себе, что жизнь надо было прожить иначе и что излечить нас не может ничто - даже выздоровление. Я чувствовал, что слишком устал от смены усилий и падений, равно изнурительных, и однако в музыке я уже наслаждался собственной слабостью и отказом от борьбы. Я уже не мог, как прежде, презирать жизнь страстей, хотя ее страшился. Моя душа проникла в глубины тела, и, возвращаясь, мысль за мыслью, аккорд за аккордом, к моему самому интимному, самому потаенному прошлому, я сожалел уже не о своих грехах, а о тех радостях, возможности которых упустил. Не о том, что я слишком часто поддавался соблазну, а о том, что слишком долго и жестоко сопротивлялся ему.
Я играл с отчаянием. Душа человека не поспевает за ним, вот почему я готов допустить, что она живет дольше него. Она всегда немного отстает от той жизни, что мы ведем в данную минуту. Я только начинал понимать смысл той глубинной музыки, мелодии радости и необузданного желания, которую в себе душил. Я свел свою душу к одной-единственной мелодии, жалобной и монотонной; я превратил свою жизнь в тишину, в которой мог звучать только псалом. Но вера моя не так сильна, дорогая, чтобы ограничиться лишь псалмами; и если я в чем-то раскаиваюсь, то только в собственном раскаянии. Звуки, Моника, расположены во времени, как формы - в пространстве, и пока музыка не умолкнет, она отчасти устремлена в будущее. Есть для импровизатора что-то волнующее в том, какую следующую ноту выбрать. Я начал понимать, что такое свобода искусства и жизни, которые развиваются, повинуясь только собственным законам. Ритм следует нарастанию внутреннего смятения, и, когда сердце бьется слишком быстро, его отголосок ужасен. В инструменте, в котором я на два года заточил все, что было мной самим, теперь рождалась песня не о жертвоприношении, не о желании, даже не о близкой радости - о ненависти. О ненависти ко всему, что так долго искажало, уничтожало меня. С каким-то злорадным удовольствием я думал о том, что Вы слышите мою игру из своей комнаты. Я говорил себе, что других признаний и объяснений не понадобится.
И вот в эту самую минуту я увидел свои руки. Они лежали на клавишах две голые руки, без перстней, без обручального кольца, и я словно бы увидел перед собой мою вдвойне живую душу. Мои руки (я могу говорить о них - ведь это мои единственные друзья) показались мне вдруг удивительно чувственными; даже оставаясь неподвижными, они словно бы прикасались к тишине, исторгая из нее звуки. Они отдыхали, еще чуть подрагивая в ритме и храня в себе все будущие жесты, подобно тому, как клавиатура хранила в себе все дремлющие пока звуки. Эти руки когда-то обвивались вокруг других тел в краткой радости объятий, нащупывали на звучных клавишах форму невидимых нот, осязали в потемках контуры спящего тела. Часто я поднимал их вверх в молитве; часто соединял их с Вашими руками, но об этом они теперь не помнили. Это были безымянные руки, руки музыканта. Они были моими посредниками, - благодаря им, через музыку, я причащался бесконечности, которую мы склонны называть Богом, и, через ласки, соприкасался с жизнью других. Это были безвестные руки, бледные, как слоновая кость клавиш, на которых они лежали, - ведь я лишал их солнца, работы и радости. И все-таки то были верные служанки: они кормили меня тогда, когда музыка давала мне хлеб насущный; и я начинал понимать, что есть красота в том, чтобы жить своим искусством, ведь это освобождает нас от всего, что лежит за его пределами. Мои руки, Моника, освободили меня от Вас. Я снова мог протягивать их без помех, мои освободительницы-руки открывали передо мной дверь, через которую я мог уйти. Быть может, друг мой, глупо рассказывать все, но в тот вечер я, как бы скрепляя договор с самим собой, неловко поцеловал обе свои руки. Я лишь бегло упомяну о последующих днях, ибо то, что я тогда чувствовал, касается и волнует меня одного. Я предпочитаю хранить про себя мои интимные воспоминания, потому что с Вами я могу говорить о них лишь с осторожностью, похожей на стыд, а если я буду изображать раскаяние - я солгу. Нет чувства слаще, чем поражение, когда сознаешь, что оно окончательное: в Вене, в эти последние солнечные дни осени я познал восторг обретения собственного тела. Тела, которое излечило меня от присутствия души. Вы видели во мне только страхи, сомнения, укоры совести, собственно, даже не моей совести, а совести других людей, которой я руководствовался. Я не сумел или не посмел сказать Вам ни того, какое пламенное восхищение вызывает во мне красота и тайна тела, ни того, что, отдаваясь, каждое из них словно одаривает меня частицей юности человечества. Жить трудно, мой друг. Я построил слишком много моральных теорий, чтобы не строить теперь других, противоречащих им, и притом противоречивых: я слишком разумен, чтобы воображать, будто счастье покоится только на краю греха: порок, как и добродетель, не способен подарить радость тому, кто не носит их в самом себе. И все же я предпочитаю грех (если это грех) отречению от самого себя, граничащему с безумием. Жизнь сделала меня таким, какой я есть, пленником (если угодно) инстинктов, которых я не выбирал, но с которыми я примиряюсь в надежде, что это согласие принесет мне пусть не счастье, но ясность духа. Дорогая моя, я всегда считал, что Вы способны все понять, а этот дар встречается куда реже, чем способность все простить.