Китайское солнце
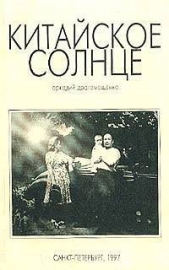
Китайское солнце читать книгу онлайн
Очередная "прозаическая" книга Аркадия Драгомощенко "Китайское солнце" (прежде были "Ксении" и "Фосфор") — могла бы назваться романом-эссе: наличие персонажей, служащих повествованию своеобразным отвердителем, ему это разрешает. Чем разрешается повествование? И правомерно ли так ставить вопрос, когда речь идет о принципиально бесфабульной структуре (?): текст ветвится и множится, делясь и сливаясь, словно ртуть, производя очередных персонажей (Витгенштейн, Лао Цзы, "Диких", он же "Турецкий", "отец Лоб", некто "Драгомощенко", она…) и всякий раз обретая себя в диалогически-монологическом зазеркалье; о чем ни повествуя (и прежде всего, по Пастернаку, о своем создавании), текст остается "визиткой" самого создателя, как арабская вязь. Но мнится временами, что он (вот-вот!) выходит из-под контроля этого последнего, словно какой франкенштейн…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Моя любовь выскользнула из тебя, не оставляя ни следа, ни вчера, ни сейчас. Мы понимали, что для сравнения нуждаемся в себе самих, как в другой части сравнения. Немедля я подумал, что ты — стекло, в которое вплавлен мой рот. Превозмогая отвращение, я притронулся к тебе, поскольку в противном случае нам не удалось бы то, для чего мы встретились. Твое падение лучом выхватило парение ножа, отражавшего птицу и рыбу в горящем магнии.
Раны благоухали левкоями, горячим воском, рвотой. Разве тебе больно, спросила ты. Мы покинем эти места и превратимся в раковины, устрашающие своими краями и неясным шумом, заключенным в самой сердцевине, в пустоте, зачинающей наше ни в чем не завершаемое превращение.
Ссадины, растертые в кровь кончики пальцев, крошащийся ракушечник, колеса, бегущие по холмам вниз. Шлейфы горячей пыли Прованса. Красный шалфей, бессмертник и мята. Теперь довольно, сказала ты и ушла под душ. Воспетый Гомером электрический вентилятор. Мы ползали по полу, собирая порхающие страницы. Тушь искусна в оцепенении, но только так цвет сужает себя до узнавания в спазме; как плющ на глухой стене двора. Но ведь мы только-только подошли к тому, что было потом, когда мы оба научились раздевать друг друга, или, иными словами, не обращать на это внимания. История выгорала с медлительностью чернил на палевых подкрыльях жуков. Речь шла об отвращении и апатии.
— Сумасшедшие также стареют, — ответил я. Мне спешить было некуда.
На что ты сказала:
— Отсутствие логики без труда умещается в определенную логику устранения.
— А чем руководствовалась логика нашего поведения в деревне? — Эта была старая почти забытая история начала нашей любви, когда однажды ночью, не сговариваясь, мы сцепились голыми в грязи коровника — я помню вкус жижи, в которой мы катались, то, как она орала, что это то, что надо, чтобы понять, зачем мы еще нужны друг другу, если вообще нужны, — потом ее руки стали слабеть, и кроме нашего дыхания ничего уже не было слышно.
"Смерти никогда не бывает слишком много", сказала она днем позже, подстригая мне волосы, — "а я, между прочим, так и не заметила", продолжала она рассуждать, "кончил ты, или нет… Хотя, какое это, вообще, имеет значение!" В ответ я пожал плечами под простынью, которой она меня накрыла. "Можно, вообще, никогда не начинать, но это, конечно, дело принципа", добавила она, и через несколько минут — "ну скажи, на милость что-нибудь! Какого черта ты молчишь? Скажи, что тебе хорошо, когда я тебя стригу или — что-нибудь придумай." Спустя несколько лет я ей сказал, что можно было никуда не уезжать, что теперь наши забавы кажутся невинными как бумажные розы. Розы и есть розы, ответила она, и по отсутствующему выражению лица было видно, что ее мысли заняты другим.
Дыхание крепнет. Облако. И горожане, знающие вполне, что только слово отделяет их друг от друга и от них самих. Призрачная препона призрачных времен. Счастливы ли они? Но ты, почему ты также теряешься в этих рядах, толпах, молча стоящих по обе стороны лестницы, уводящей к берегу. Да, в этом случае невнятность вполне простительна. Само собой, ночью я поймал себя на том, что ничего не понимаю из открытой глазам книги. Объяснение, развертывающее следующее объяснение: такова информационная стратегия общества. Способы объяснения различны, однако их объединяет очевидно выраженное намерение открыть механизмы, производящие значения (в лучшем случае, закон), но, происходя в постоянном смещении, объяснение представляет собой акт, результат которого заведомо нуждается в объяснении как новая данность. В таком контексте находит место известная иллюзия интеграции информации (по понятным причинам "понимание" в качестве термина не применяется), или, иными словами, целостная картина происходящего. Принцип объяснения, даже не восходя к еще более строгому "доказательству", есть принцип управления. Дальше мне неинтересно.
Книга вкрадчиво листала меня страница за страницей — все были пусты и одновременно тесно исполнены строками. Стрекочущее прошлое освещало пыль, испещренную скорописью пустыни Наска. Метбар. История этих мест уходит в эру отступления океана, формообразования раковин, становления состава крови на гончарном кругу. Подай мне свитер, нож, соль, чашку, хлеб, кровь — пусть все, что угодно. Так я хочу. Бог мой, какой теплый вечер! Как давно все это было. Как обворожителен тихий полевой ветер, колышущий цветы в сумерках. Случай и выбор ничем не управляют, — если кто и упомянет об этом в мемуарах, это будет означать одно: лишь в определенных условиях, где альтернативы послушны в управлении противопоставлению. Прости такую неловкость. Не может быть, чтобы прежде я обнимал тебя по-иному. Но как? Что было вокруг? Чем были заняты наши головы? Мы? А наши руки? Изменились? Кто-то стучит. Отлично, кто-то принес нам деньги и вино. Если бы в начале 60-х мы знали о грибах, мы бы никогда не изведали вкус истинной меланхолии, очарования пыли, последних лучей дня, выгорающих на камнях. Стоит ли забираться в Ад, чтобы в итоге начать по нему тосковать? Вопрос времени. Ответ пространства. Любое перечисление, изводя себя в приращение, обретает критическую массу достоверности. Не думаю. Сосредоточься на пальцах ног. Все сияет. Ослепительный блеск, невыносимый слуху блеск! Для чего нужна слепая вера. Такова ночь. Такова чума. От Млечного пути несутся те же раскаленные, но уже невещественные листья. Деревья осыпаются вихрями. Не понимаю, что важнее — знать "как" или "почему". Даже при пристальнейшем боковом вглядывании в кристаллические образования шума. Насыщение повествования происходит задним числом. Отсюда мы движемся к третьей строке, и ожидание вписывает несколько малозначащих или ненужных слов. Возросли цены. Но не настолько, чтобы теряться, чтобы терять голову. Помню, как клялся (неблагозвучие), что никогда не выпущу тебя из рук. А что в итоге мы растеряли? Несколько дешевых историй?! Затем слова медленно смыкаются краями (производство чистейших, вне корысти, форм) и составляют предложение, не имеющее завершения в намерении. Вместе с тем, что возникает раньше, намерение слова, или же слово, взыскующее намерения? Такое предложение готово раствориться, утратить определенную "собственность" в любом окружении. Как я, например, или ты. Вот твои документы, сука. Нет, Вера Сергеевна, ваш план мне не нравится. Конечно, я могу пройтись по их сетям, но это нам ничего не даст. Она отнюдь не относилась… хорошо, пусть — относится! — к тем, кто предпочитает хранить деньги в банке. Как это сделать? А то вы не знаете, бедная! Ну, ладно, это мой, скажем, секрет. Кстати, куда вы отправляетесь вечером? Нет, я не настаиваю. С какой стати! Вы босс, вы платите мне жалование. Между прочим, сегодня вам кто-то звонил несколько раз. Не называя себя. Да нет, еб-твою-мать, как только я спрашивал, тут же бросали трубку. Конечно уверен, моя персона мало кому интересна. (Нет, проблем в том, чтобы пощупать банковские сети, не было — надо было просто связаться с этими ковбоями из Дортмунда, и через них выйти на себя самого. Как жаль, проклятье, какая жалость, что Карл подался в свое тупое странствие к "мертвым").
Или продолжительность денег. Я знаю, — или же (хотелось бы думать) я по обыкновению не слышу слов: следовательно, так ты поворачиваешься в мою сторону, свет из окна (для кого?) падает на твое лицо, ты слегка (медленней) поднимаешь руку; словно ты хочешь остановить себя, а я не намереваюсь тебя прерывать, мне нечего сказать, то есть, я вроде бы сказал то, что надлежало: "почему плачут дети", — я многое дал бы за то, чтобы сказать (прежде всего, захотеть…) тебе еще что-нибудь, а затем… нет, я опять ничего не слышу. С кем ты все время говоришь? К кому ты обращаешься? К врачам? Лучше видеть. Положи трубку! Я много курю. В моем возрасте следует делать что-то другое. Никто ничем не владеет во всех без исключения домах. Я приезжаю (теперь пытливый ум может расставить знаки на смутной паутине — прибывание, расставание… маркеры, не отличающиеся, к слову сказать, особенной надежностью). Какое отвращение вызывает запах этих задохшихся, гниющих роз! Я ни о ком не хочу думать. Все, что пишется — пишется с целью не возвращаться к написанному. Странгуляционная борозда северного различения. Медленное двоение на "я" и "ты" — обыкновенный признак слабости. Всегда есть те, кого никогда нет и не было. Каким образом этот предмет отличает себя от иного, например, от "Галилея"? Вопрос можно поставить по-другому: что разрешает "мне" в этом предмете его же мыслить, изводить его в мое присутствие, и, если это действительно так (введенное слово действительность "очевидно" является тенью виртуальной действительности неприкрепленных слов, чьи референтные спирали никогда не замыкаются в пункте определенного значения; поезд не останавливается на этой станции, можно поглядеть из окна на надписи, выложенные на насыпи, но нас интересует подлинность интонации! — вот что надлежит выбирать между сферой опознаваемости и растворением в неочевидности), если это не является результатом внешнего настояния, какие изменения претерпевает этот факт в моем опыте по мере того, как я продолжаю отвечать на его приглашение его же мыслить (воображать, переживать, воспринимать, etc.). Наиболее искренним ответом предполагается следующий: я не знаю, что такое поименованный предмет. Конечно, я не знаю этого до тех пор, покуда он не будет поименован. Но правомерен будет и такой ответ: я не знаю, что такое этот, поименованный предмет. Его имя, его присутствие в моем опыте, то есть, знание в какой-то момент перестает меня удовлетворять, более того, оно становится совершенно не адекватно себе в момент спрашивания. Вопрос всегда уничтожает ответ. Конечно, конечно, можно многое и о многом напомнить себе или, на худой конец, придумать какие-то картины раннего детства.






















