Китайское солнце
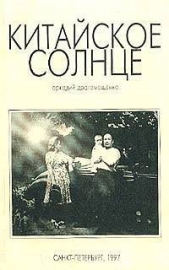
Китайское солнце читать книгу онлайн
Очередная "прозаическая" книга Аркадия Драгомощенко "Китайское солнце" (прежде были "Ксении" и "Фосфор") — могла бы назваться романом-эссе: наличие персонажей, служащих повествованию своеобразным отвердителем, ему это разрешает. Чем разрешается повествование? И правомерно ли так ставить вопрос, когда речь идет о принципиально бесфабульной структуре (?): текст ветвится и множится, делясь и сливаясь, словно ртуть, производя очередных персонажей (Витгенштейн, Лао Цзы, "Диких", он же "Турецкий", "отец Лоб", некто "Драгомощенко", она…) и всякий раз обретая себя в диалогически-монологическом зазеркалье; о чем ни повествуя (и прежде всего, по Пастернаку, о своем создавании), текст остается "визиткой" самого создателя, как арабская вязь. Но мнится временами, что он (вот-вот!) выходит из-под контроля этого последнего, словно какой франкенштейн…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Грек с жестянки медленно опускает веко на левом глазу, и я едва успеваю увернуться от летящего прямо мне в лоб цехина. Боль снова оттаивает в зрении, рассекаемом линией, по одну сторону которой мы есть, а по другую — нас не стало, не было, не будет, а есть одно: возможность первого, второго, третьего. Оно делится на две части. Одна принадлежит мне, другая греку, или той, кто мне о нем рассказывает, сидя на постели в махровом халате и белых носках, успешно притворяясь собственной сестрой.
Но в наших отношениях не присутствует и тени вражды. Звезды тускнеют, восток светлеет. Проходят дожди. Закончилась еще одна война. Потому что происходящее есть тайное совещание необходимых сил, и мы оставлены для того, чтобы свидетельствовать об этом в дальнейшем. Но ты, говорит она с долей удивления (скорее, оно мнится читающему это предложение), находишься вне того, что я бы назвала справедливостью. Да, тогда отвечаю я ей, допускаю; наверное потому, что мне не совсем ясно, что ты имеешь в виду. И, вообще, как можно говорить о справедливости, если с утра идет одна и та же карта, если второй день не прекращается мокрый снег, пейзажи впадают в нищету, денег нет, а в руках то и дело оказывается потертая фотография какого-то грека с куском пиццы в руках, стоящего на вечерней улице, когда верхние этажи домов сумрачно дотлевают алым светом, а внизу разлита прозрачная прозелень, которая — пройдет еще несколько минут — превратится в аметистовые дымные сумерки, как то обычно случается в этом месте, на углу Моховой и Пестеля, где ты ощущаешь, как мозг снова становится безлюдным средоточием всех улиц мира, а все вокруг кажется настолько реальным, что невыносимо хочется проснуться. Но идти приходится всегда по одной, независимо от стороны, которую выбираешь. И места.
Справедливо предположить, что в молодости именно такая экспансия представлялась единственной альтернативой тому, смутное осознание чего мы носим в себе задолго до разделения на то и другое. В слюдяные разрывы секунд по каплям втекала луна. Сок белены, лебеда под косой, бормотание гребли, — бесцветнoe горение горла и волосы воды на стеклянном гребне ветра. Знаем ли мы, что мы знаем; как каждый из нас это знает, а затем, после, потом, тогда, точно блуждая в садах синонимии — ступая со ступени на ступень, вниз, третий пролет, упуская с неожиданной легкостью отсутствие опоры под ногами (вереск, едва уловимый хруст подмороженного песка и плеск, означающие теперь тонкое кольцо на безымянном пальце — вот еще одна подробность, уводящая от означающего к синестезии): что означает каждый для имеющегося у него знания? Теплый удар ветра рассеял споры. Столкновение с ветвью, с дождем, металлом, с пеплом. Я проходил здесь по многу раз. Важно понять, каким образом происходит процесс лексического отбора. Выбор того или иного слова есть акт сознания, создающий реальность, к которой, за неимением другого, меня словно сносит течением — странные берега, к которым никогда не пристать. Перераспределение значений, освобождение смыслов: увеличительное стекло в медной оправе, модель фрегата, книга, раскрытая на странице, где краем глаза возможно вырезать беглое: "есть там какое-то дерево, из которого вырезают палки; они весьма красивы и пестротой своей напоминают тигровую шкуру. Дерево это тяжеловесно; если же его бросить на твердую землю, то оно разобьется как черепок", — подальше, за граненым стеклом шкафа, мраморное яйцо о четырех дюймах высоты, метелка из поблекших, некогда раскрашенных перьев, янтарная рыба с раздвоенным спинным плавником, заточенная в фальшивый хрусталь странного прибора, предназначенного для одновременного измерения высоты всех возможных лун. Одним словам отдаем предпочтение (они извлекаются невесть по какой причине из каталогов небытия, то есть — меня), другие остаются контурами лишь самих себя, мольбой перечисления, возникая в сознании тщетным стремлением соединиться с вещью, давно уже порвавшей с блаженным мгновением беспредметности в своем притязании на бытие. Возвращение невозможно. Какой день нам идет одна и та же карта. С Литейного на Маяковского заложили проходной двор. Не забыть. К слову, там никогда его не было. Заведомая ошибка. Ищи другую улицу. Другие окна и голоса.
А со среды на пятницу Диких приснился сон. Крыша не крыша, луг не луг, но идет Диких по плоскому месту, посвистывает и видит под ногами, как плещутся звезды, — дыры, подумал было Диких и был не прав, поскольку действительно шел по лугу, и было ослепительно светло. Так бывает, когда небо затягивается молочной сияющей пеленою, и свет невыносимо ярок по полудню, возникающий ниоткуда и не простирающийся далее собственных границ, и только стелятся тяжкие дремотные травы, а утром, конечно, никакой росы — к дождю как бы все идет, но ни капли не проливается, и все ярче горят очертания предметов, даже не их собственные очертания, а что-то в зрачке, то, что встречается с желто-пурпурным свечением следов, оставляемых вещью в ее движении. И тут откуда ни возьмись этот ребенок навстречу, надоел он Диких изрядно, но пускай, думает Диких, останавливаясь, как того требуют приличия. А дитя, лозой поигрывая, молвит, от света мучительного бессолнечного застясь рукою. А если бы глянуть под руку — увидать каждый бы смог облака, несущиеся с юга с сумасшедшей скоростью, низко… почти что над головой.
— Отгадаешь, Диких, — говорит дитя чужим голосом, — загадку, в живых останешься. — А само губы кривит, будто нет у него охоты такое выговаривать.
— Так ты и мое имя знаешь? — дивится Диких не по наивности, а по лукавству скорее — время затянуть хочет. — А не отгадаю?
— Да как же так! Человек ты бывалый, поживший, многое про жизнь знаешь…
— Ладно-ладно! Полно тебе, загадывай, — решается Диких, и становится ему щекотно под сердцем.
— Ну так вот, скажи нам, когда ты умрешь?
— Я? — говорит Диких. — Я? — И умолкает.
В первый миг почувствовал Диких грусть неописуемую, но уже в следующее мгновение говорит он следующее:
— Постой-ка… Если я правильно понял… Я умру, если не скажу тебе, когда я умру?
— Именно, — говорит дитя.
— Но, если я… будь по-твоему, назову срок, а потом все окажется не так?
Дитя пожимает плечами. Сон с разительной быстротой начинает сокращать свое пространство. Сон уже облегает Диких с неодолимой силой и будто в тесном, светлом мешке оказывается Диких, не в силах пошевелить ни губой, ни рукой. Затем все меркнет, и в сон приходят другие сны. Их много, и они приносят многое (пользу и вред, чаще — ничего), и это многое совершенно не имеет никакой пользы.
Я никогда не стану больше об этом писать, поскольку требование неисполнимо: к какому началу мы относим себя? Ты медленно и терпеливо меня обучала, будто нехотя… избавляться от смирительной рубашки "мы". Легче привыкать к богатству. Трудней отвыкать от нищеты. В последний раз. В первый-сотый раз вчитываясь в написанное, измененное неверным следованием еще более смутному представлению собственного желания, берешься угадывать слабые черты возникающего предмета. Лишь в слабости зрения раскрывается неистощимое величие, но, вернее всего, в восхождении к ослаблению. Он вынужден прибегать к молчанию. Что за нужда! Мы говорим лишь по причине непреложного желания понять то, что нами говорится. В итоге принимаемся (так иногда кажется) догадываться, что "мы" всего-навсего случайно запавшее в здесь и сейчас искаженное слово, правильность которого пытается угадать, выговаривая, исчезновение. Узор слюдяных разрывов. Чаще ночами, когда все уходили в (за) другое время, во (за) время скальпированных сновидений. Было бы куда как просто сказать, что в 11 лет, осенней ночью я увидел сон, в котором мне довелось переспать со своей матерью. Мы погрузили руки во внутренности птицы. Расположение органов было благоприятно. Предлоги, определяющие траектории глаголов. Скорченного, поджавшего колени к подбородку, нагого, меня без потерь и кожи несло, плавно кружа, между отвращением и страхом, одетого кровью, слизью, солью, рвотой. Фотография из анатомического атласа. Я научил петь сирен, я научил их слух цифровой записи, которой предстояло вечно хранить секретные узоры моего странствия, маятник которого рассек тело, исполняя его неуязвимостью, поселившейся ниже сердца сгустком ожидания. Тогда я перестал писать стихи. Слишком мало воска было оставлено моей собственной душе. Поэзия… та поэзия, которая… в ней было слишком мало насилия.






















