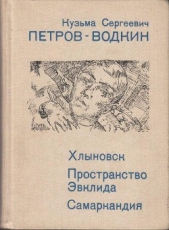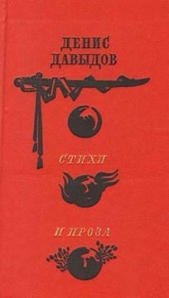Моя повесть-2. Пространство Эвклида
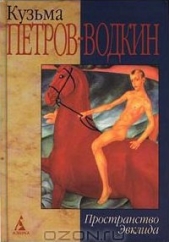
Моя повесть-2. Пространство Эвклида читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Восток представлялся мне людской туманностью. Индия и Китай сказочно маячили для меня за Гималаями. Я жил в географическом треугольнике, упиравшемся острием в Европу.
Из "европейцев" я знал еще в Хлыновске немца Шмидта, управляющего графским имением: с короткой трубкой в зубах, авторитетно чеканил он слова с соблазнительным акцентом не нашего говора, - он представлялся мне отзвуком далекой Европы без вшей и поножовщины, за его не-русскостью была для меня манящая сверхрусскость, а в непонятности языка - умное построение человеческой мысли.
С таким приблизительно багажом очутился я в Петербурге.
Глава шестая
ГОРОД МЕДНОГО ВСАДНИКА
…И всплыл Петрополь как тритон.
По пояс в воду погружен.
Пушкин
Бывает так; прыгнешь через овраг, не рассчитавши разбега, и зацепишься только носками ног за противоположный край, а тело еще сзади, - таков приблизительно был мой перескок с Волги на берега Невы.
Мои младенческие памятки меня не обманули: фантастический город Петербург. И могло бы случиться, как это случилось со многими моими друзьями из "Мира искусства", что я, на всю жизнь оставшись под его чарами, рисовал бы его каналы, Новую Голландию, ростральные колонны и памятник Фальконета.
Спас меня от этой участи Пушкин: не превозмочь было бы мне родного гения в этом деле. Не будь "Медного всадника" Пушкина, и этот, раскинувшийся на Сенатской площади, силуэт конной статуи возымел бы для меня иное ритмическое значение-Поэт сделал его флюгером Петрополя, Петрограда, Петербурга.
Мое юношеское впечатление дикаря было поражено и запутано греко-римским величием города. Его красота входит в юношу постепенно, как отравление от папиросы к папиросе.
Когда белые ночи зальют молоком растреллиевские ажуры, колоннаду Воронихина, прозрачный из края в край Летний сад, а в небе зажгутся неизвестно откуда освещенные иглы Адмиралтейства и Крепости, когда из зеркальных подъездов в путанице кружев выпорхнут на тротуар и нырнут в кареты пушкинские видения, - тогда не отбрыкнуться от всего этого юноше. Иди тогда, юноша, на Сенатскую площадь и начинай все снова.
Хвост коня с путающейся змеей - Россией направлен к религиозному пережитку Монферрана, а перст всадника - в Академию наук. Зверски смотрит всадник, искаженно сдвинуты его лоб и скулы, по-петровски, кажется, разносит он храм науки.
Ходил я по указанию руки медного Петра.
Прошел мосты, проспекты и фабрики. К вечеру добрался до окраины. Здесь невинная детвора счастливо играла на кучах отбросов. Эти кучи были последними островками житейской площади, за ними, куда только глаз хватал, была нежить: болото, кочки, на которых даже воронье не искало пристанища, и только кое-где для пущей убогости торчали мохорки чахлых березок, изъязвленных болезнями и болотной нудью…
Ходил я по направлению хвоста медной лошади, и там, за Обводным каналом, тот же обрез в непроходимую неудобь.
На солнечной стороне Невского шелест шелков, шуршание шлейфов и дзиньканье серебряных шпор. Салюты котелков и цилиндров. Лица женские в соболях и страусах, с улыбками недосягаемости и дурманящей красоты. Духи всех экзотических трав и цветов кружили голову юноши.
После четырех вся эта волшебная порода людей скрывалась за бездонными окнами дворцов и особняков и замыкалась строгостью зданий набережных, и только в их подъездах застывали человекоподобные золотые существа с булавами, охранявшие входы.
Как клопы, залезали дикари в эту недосягаемую, казалось бы, для них налаженность. Гнезда их у вокзалов. Расположится, бывало, такая нечисть с узлами, с сундуками расписными на площади. Их только что вытпяхнули из вагонов.
- Чьи вы? - спросишь.
- Рязанские… Череповецкие… Тверские… - ответят дикари сквозь жов обломов черствого хлеба. Среди них коновод - в скобку волосы, с глазами осторожными, как во вражеском лагере.
Подходит к ним городовой. Кора на нем особенная от казарм, от участка, но деревня в нем еще сосет его.
- Разойтись бы вам, мужики: на видном месте тесноту делаете!
Коновод тут как тут:
- Не извольте беспокоиться, ваше степенство, мы, как сказать, свата поджидаем: на квартиру он нас поставить должен…
- По какому делу?
- По разному: плотничать, стругать - деньги наживать…
- А в деревне как?
- Живем, как сказать, - хлеб жуем, а хлеба нет - зубы на полку. Вашинские отсюда больно припирать начали!…
Городовой вмиг делает строгое лицо, но в это время дворник с метлой подоспеет:
- С Прошинской волости нет ли кого? Дикари заполошатся от радости.
- Мы, мы - прошинские! Нешто наш?
Окажутся родные здесь дворнику: тетке Маланье двоюродного брата свояком окажется дворник, и целая ватага прошинских уведется им в подвал дворницкой в доме по Лиговке.
Рассуются сиволапые по городу и начнут осаду его налаженности делать.
Вторым диким элементом, не в стиле Петербурга, были учащиеся.
Стриженые и лохматые, застреляют они мостами на Васильевский остров. Закурят по каморкам "асмоловский" в насыпных гильзах и забурчат об одном и том же: как жизнь устроить?
Сразу видно, из дыр и логовищ собрались, не понимают даже, что и без них уже все устроено и налажено в Петербурге; видите ли:
- Декабристы положили начало…
- Гегелевская диалектика, дифференцированная Марксом, требует… - взгрубит самый дикий.
Потянутся нитки из каморок в университет, в рабочие кварталы. Книги, брошюры и листовки залетают туда и сюда.
Только чихнут хозяева за зеркальными окнами, как тотчас, вместо поздравления, - сходки, протесты, забастовки. Хозяева отвечают гостям обысками и арестами.
Обычно в солнечные весенние дни гарцевали вороные кони и шлепали по спинам лохмачей нагайки.
Лохмачи в лоб хотели взять противника.
Мужики действовали иначе: враг такую паутину развел, что в ней и паука не сыскать, - и они действовали измором: исподволь до кармана благородного добирались. У полового свои номеришки "для на время" заводятся на Лиговке; у разносчика лавчонка мелочная; плотник до подрядчика доберется: дом себе на Песках на объедки от подрядов вытянет да еще просушку его костям вражеским предоставит.
На капитал мужик сядет, разомлеет от победы, - раскаянье нападет на него от того, сколько он благородной крови выпил, и для своей души спасения соорудит он Васину Деревню, набьет ночлежку, как мешок горохом, беднотой и ворами. Глядишь, и это на пользу: разведутся в Васиной Деревне болезни и начнут перебираться через Неву к зеркальным окнам.
Петербург разъяснился для меня еще шире в сторону его фантастики "Пиковой дамой".
Это была одна из первых опер, которую я услышал. Вначале этот род искусства давался моим восприятиям с большим трудом: я терялся между смыслом слов и звуками Только уйдешь в звуки увертюры, увяжешь их в образы, как появляется певец с его типом и певучим говором. Увяжешься за музыкой - потеряешь рассказ. Разберешься в рассказе - мелодия ускользает. Вначале было я решил, что это ошибочная форма искусства - такая смесь двух значимостей, но потом научился воспринимать оперу раздвоенным вниманием.
"Пиковая дама" была тогда новой оперой. Поставленная впервые в 1890 году, она еще не была к моим годам испета и наиграна вне театра. Самыми убедительными для меня местами явились тогда сцены в казарме и на Зимней канавке. Кажется, на всю жизнь потом окрасилось для меня "Пиковой дамой" место, соединяющее Эрмитаж с Зимним дворцом. Странно, что при всей моей тогдашней неопытности французская песенка Гретри, исполняемая графиней, оказалась для меня ключом для всей оперы, она сильнее дуэта "Редеет облаков летучая гряда" вскрыла для меня смысл города и его стиль колонн, арок и перекидных мостов.