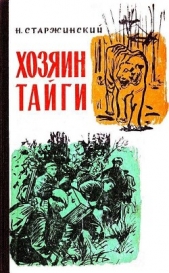Это случилось в тайге (сборник повестей)

Это случилось в тайге (сборник повестей) читать книгу онлайн
Анатолий Клещенко — ленинградский прозаик и поэт. Первые стихи его были опубликованы в 1937 году, затем он долгие годы работал на Северном Урале и в Приангарье на лесозаготовках, на рудниках, занимался промысловой охотой. Вернувшись в Ленинград, Клещенко становится профессиональным писателем, он автор нескольких стихотворных сборников и ряда прозаических книг. В декабре 1974 года А. Клещенко трагически погиб на Камчатке, где он последние шесть лет работал охотинспектором, собирал материал для своих новых книг.
В эту книгу вошли повести «Распутица кончается в апреле», «Дело прекратить нельзя», «Когда расходится туман» и «Это случилось в тайге». Действие всех повестей происходит в Сибири, герои Клещенко — таёжники, охотники, исследователи. Повести остросюжетны. В обстоятельствах драматических и необычайных самыми неожиданными гранями раскрываются человеческие характеры. Природа в повестях Клещенко поэтична и сурова, — писатель отлично читает ту сложную книгу жизни, в которой действуют его герои. Проза Клещенко — мужественная, добрая и человечная.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А это, парень, один бог знает — сколько. Хотя бога и нету.
— Так… разве мы месяц протянем?
Иван Терентьевич шел, внимательно посматривая вокруг, словно искал чего-то. Его заинтересовал уроненный ветром кедр, песчаная почва на месте выворотня. Походил вокруг, присматриваясь и бормоча что-то себе под нос, обескураженно развел руками:
— Не похоже, чтобы сюда глухари наведывались, еще не обнаружили; ветровал-то недавний. Пошли дальше, Василий. — Он помолчал, сосредоточенно мусоля погасший окурок. И вдруг, как бы про себя, вспомнил: — Говоришь, месяца не протянем?.. Месяц, пожалуй, и нельзя тянуть — затянешь на себе петлю. Тут, парень, так рассчитать надо, чтобы какие-то силенки в запасе еще остались. Чтобы, скажем, если за неделю-полторы нас не выручат, можно было взять ноги в руки и пытать судьбу выбираться своим ходом. Положение у нас — вроде картежной игры втемную, в карты-то играть, поди, понимаешь? Недобрал — проиграл, может самолет прилететь, а тебя нет на месте, ушел. И перебрал — проиграл: самолета нет, а у тебя уже ноги не ходят — идти. Ладно, пока время есть ждать — подождем, должен вроде прилететь… Правда, для тебя это небольшая сладость, если и прилетит, — неожиданно закончил он.
Ольхин шел, загребая заиндевелую листву тупыми носками резиновых сапог.
— Иван Терентьевич!
— Чего?
— Со мной один черт не хорошо, пусть. И все же у вас и у меня на крайний случай этот шанс остается — последний, так? А летчику и старухе наверняка хана, да?
Заручьев круто повернулся, они почти столкнулись грудь с грудью.
— Нечего наперед загадывать — что да как. Понял? Всех нас вроде как драга черпаком зацепила, а куда кинет — в отвал или на грохота, — от нас не зависит. Куда кинет, туда и попадем.
— Но ведь мы хоть поскрестись можем, попытаться вылезти.
— Так, — кивнул Иван Терентьевич. — Допустим, что можем. Но если не в ту сторону полезем — а кто знает, в какую лезть? — нам некого винить будет, себя только, А если и их не туда за собой потянем? — Иван Терентьевич поднял указательный палец и погрозил им. — Ты бы хромую конягу через гари да мари, где она остальные ноги доломает, повел бы? Нет? А тут не скотина, живые люди! Ну… и рано об этом разговаривать, давай практику делать, пошли дальше. Теорией будем после заниматься.
— Черт с ней, с теорией, — согласился Ольхин, следуя за Иваном Терентьевичем. — Я за практику, ближе к жизни. Только вот… идти идем, а как возвращаться? Иней вроде таять начинает, по своему следу не выйдет…
— Найдем дорогу, — уверил Заручьев. — Запоминай; прошли распадинку, по другой направо свернули. Однако давай-ка тот вон косогор обследуем, песчаный. Геологи называют — обнажение.
Осыпая еще не смерзшийся песок, они поднялись до половины косогора — здесь склон переламывался нешироким уступом. Иван Терентьевич побродил по этому уступу, ковырнул в нескольких местах носком ботинка песок и спросил спутника;
— Видишь?
— Что песок? Вижу.
— А что с камушками?
— Тоже вижу.
— А перья?
— Какие? Эти? — Ольхин поднял одно, а потом другое отливающее металлом перышко, оба неопрятно разлохмаченные у оснований. — А что с ними делать?
Иван Терентьевич взглянул на него с откровенной жалостью:
— Слушай сюда. Глухарю — ему камни обязательно глотать надо, особенно перед зимой. Они у него в брюхе, на манер жерновов, хвою перетирают, у глухаря сейчас корм один — хвоя. И место это, по перьям видать, глухарям хорошо знакомое, еще бы такое найти — считай, ползаботы с плеч. Ремень поясной у тебя есть?
— Есть.
— Скинь, придется испортить, если подходящий по крепости. У меня, как на грех, негодный, с бляшками да нашлепками. А твой пойдет, твой годится, — одобрил Иван Терентьевич, рассматривая снятый Ольхиным ремень. — Теперь ты, Вася, покуда брусники нарви, только чтобы вместе с ветками, а я пойду пружину вырежу и палочек, которыми настораживать. Одну петлю сейчас поставим, а для других материал надо искать. Поглядим, может, брезент распустим на нитки или что другое. Ну, действуй! — стараясь, чтобы не скользить, ступать на пятки, он стал спускаться по склону. Проводив его взглядом, Ольхин полез наверх, в бор.
Вернулся он первым. Увидев внизу пробирающегося между кустами Ивана Терентьевича, свистнул.
— Ого! — отозвался Заручьев. — Иду!
Он принес длинный, похожий на удилище, березовый прут и несколько пряменьких, с обрезанными сучьями, палок толщиной в палец. У двух заострил концы.
— Ремень пополам — в длину — ровно разрезать сможешь?
— Невелика хитрость.
— Тогда действуй. — Заручьев отдал парню нож, а сам принялся колдовать со своими палочками: каждую, согнув в дугу, концами воткнул в песок. "Удилище" тоже всадил комлем в песок, пригнул за вершину:
— Пружина что надо.
Ольхин, пристроившись на стволе упавшей сосенки, резал ремень. Кончив, протянул Заручьеву.
Тот связал концы и, попробовав получившийся двухметровый жгут на разрыв, сказал:
— Годится!
Один конец он привязал к вершине пружины, на другом сделал скользящую петлю, вытянув ее по песку от дуги к дуге. Согнув пружину, чуть выше узла защемил ремень вставленной меж дугами распоркой.
— Смекаешь? Наступит птица на распорку — ее насторожкой кличут, — пружина распрямится и петлю затянет.
— А зачем ей наступать на насторожку — птице? — недоверчиво усмехнулся Ольхин.
— А вот гляди… — Иван Терентьевич воткнул по сторонам растянутой петли еще две палки, уже стоймя, расщепил верхние концы и вставил в расщепы по букетику брусничника с ярко-красными ягодами. — Походит птица вокруг ягод, а дотянуться не сможет. С насторожки будет пробовать — все же повыше, ну и… Понял?
— Понял, — сказал Ольхин.
— Тогда пошли к самолету, — решил Заручьев. — Ты наперед ступай, посмотрю, как найдешь дорогу.
— Попробую, — сказал Ольхин. — До распадинки, после налево повернуть. Так?
Иван Терентьевич промолчал, и парень, сбежав по косогору, ходко зашагал в обратном направлении: торопился к теплу костра, где, наверное, выдадут что-нибудь кинуть на зуб. Больше он ни о чем не думал, привыкнув в заключении ограничивать мир интересами и волнениями сегодняшнего дня, территорией, обтянутой колючей проволокой. Здесь пока что было не хуже: не надо выполнять норму по крайней мере. И можно чувствовать себя бесконвойным, — он, не сбавляя шага, повернулся к спутнику:
— Пропуска на бесконвойное хождение мне лейтенант не оставил, ай-яй-яй… Какой-нибудь медведь придерется — тогда что?
— Я смотрю, ты без своего лейтенанта, что лошадь в шахте без коногона, вроде потерянного, — рассмеялся Заручьев.
Ольхин состроил скорбное лицо:
— Разочарование переживаю. Говорят, у нас в государстве самое дорогое — люди, а меня начальник на какое-то золото променял, на произвол судьбы кинул. Обидно!
— Ладно, шагай давай, — прикрикнул Иван Терентьевич.
Выйдя к пересечению распадков, Ольхин на секунду приостановился: следов на присыпанной хвоей почве не было — но, подумав, повернул налево. Прошли еще метров триста — до знакомого спуска к ручью. Оглянувшись, он спросил с торжеством в голосе, как уверенный в похвале мальчишка:
— Ну что?
— Чистый всемирный следопыт, — сказал Иван Терентьевич. — Теперь, поскольку у тебя две руки, а у меня одна, топлива для костров захватишь, а я прямиком на стан подамся.
Ольхин отправился искать сушняк, а Иван Терентьевич заторопился к самолету.
— Ну вот, одну петлю поставили, почин есть, — громко объявил он, подойдя к костру. Потом, присев на корточки рядом с Анастасией Яковлевной, выбросил обжегший губы окурок и заговорил раздумчиво, с паузами: — Понимаете, такое дело… Малый этот — уголовный элемент, вор, а тут, на Счастливом, еще человека порезал. В общем, при случае маху не даст — если что плохо лежит. А у нас в самолете находится золото, шлих. Я, конечно, сказал, будто лейтенант забрал это хозяйство с собой, а все-таки сердце не на месте — вдруг наткнется? Такому человеку — явный соблазн, ему терять нечего. И тем более он два раза про это золото поминал сегодня, пока мы петли ставить ходили…