Исповедь неполноценного человека
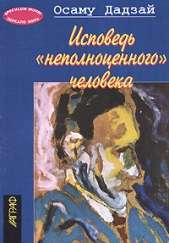
Исповедь неполноценного человека читать книгу онлайн
Осаму Дадзай родился 19 нюня 1909 года. Прожил недолго: 13 июня 1948 года он свел счеты с жизнью, бросившись в воды реки Тамагава...
Писать начал рано, первая публикация состоялась в 1924 году, юному писателю было тогда 15 лет.
Читающая публика, в основном молодежь, считала его своим кумиром - за совершенно необычайное и во многом близкое ей восприятие мира, за глубочайшую психологичность, за изумительный непривычный слог (Осаму Дадзай учился в университете на факультете французской литературы, находился под сильным влиянием Чехова).
Новатор, он продолжал традиции японской литературы, привнося в них дух современности. В частности в старинном жанре "ватакуси-сесэцу" (роман о себе) написана и предлагаемая вашему вниманию "Исповедь".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Неожиданно к горлу подступила тошнота. Что было дальше, не помню. Впервые в жизни я напился буквально до потери сознания.
Проснулся в комнате Цунэко. Она сидела у изголовья.
- "Конец деньгам - дружбе конец"... Я думала, то была шутка, а оказалось - нет. Долго ты не появлялся... Да и расстались мы в тот раз как-то уж очень мудрено. А что, если... мы будем жить на мой заработок? Нельзя?
- Нет.
Больше она ничего не сказала. А на рассвете ее губы прошептали: "Умереть..." Бедняжка... До чего она устала от жизни... Да ведь и я... Вечный страх перед людьми, бесконечное плутание по жизненным лабиринтам, безденежье, подполье, женщины, учеба - все это пронеслось в голове и я понял: нет сил жить далее.
Я с легкостью принял ее предложение умереть вместе. Но тогда эти слова еще были лишены реальности, скорее казались игрой.
Все утро мы бродили по Асакуса. Попили молока в маленьком уютном кафе. Из рукава кимоно я вытащил кошелек, открыл его, чтобы достать денег и расплатиться - в нем нашлось только три медных монеты. Мне стало так... нет, не стыдно, - мне стало так невыносимо горько! В голове сразу же подсознательно мелькнуло: в моей комнате нет ничего, кроме форменной одежды и одеяла, закладывать больше нечего, разве лишь кимоно, которое сейчас на мне, да плащ... Вот она - реальность. И стало окончательно ясно, что жить больше я не в состоянии.
Итак, раскрыв кошелек, я замешкался. Подошла Цунэко, заглянула в него:
- Больше ничего нет?
Ничего особенного в ее голосе не было, но слова эти невыносимой болью отозвались в груди, впервые мне было так больно и от слов, и от самого голоса любимого человека... Да, ничего. Ничего нет. Только три монеты... Это совсем не деньги. Никогда я не чувствовал себя настолько униженным. Такого позора вынести невозможно. Как-никак, я был из состоятельной семьи... И тут... И тут я почувствовал реальный смысл слов "умрем вместе". И окончательно решился.
Вечером того же дня мы были в Камакура, и море приняло нас...
- Оби [13] я одолжила у подруги на работе, - сказала Цунэко и, аккуратно сложив его, оставила на скале.
Я тоже снял плащ и положил его рядом.
Потом мы вместе вошли в воду...... Цунэко не стало, а я спасся.
Был я тогда еще только гимназистом, к тому же на меня падал отсвет отцовского величия, и потому пресса подняла довольно большой шум.
Меня положили в больницу. Приезжал кто-то из родственников, что-то где-то улаживал, сообщил мне, что отец и все остальные разгневаны и, очень может быть, откажутся от меня... - и уехал. Но это меня нисколько тогда не волновало, в другом я был безутешен - лил бесконечные слезы, оплакивая любимую Цунэко. И в самом деле, из всех живущих на земле людей я любил только жалкую Цунэко...
От студентки - коллеги по подполью - пришло длинное письмо, все написанное стихами танка [14], каждая строка начиналась словом "Живи!".
Ко мне в палату часто заглядывали медсестры, весело улыбались, некоторые, уходя, крепко пожимали руку.
В больнице обнаружилось что-то неладное в левом легком, и это оказалось мне даже на руку, потому что вскоре с вердиктом "попытка самоубийства" меня препроводили в полицию, где обходились со мной как с больным человеком, поместив даже в особую камеру.
Глубокой ночью скучавший в соседней комнате для дежурных пожилой полицейский приоткрыл дверь и окликнул меня:
- Эй, ты там не замерз? Давай сюда, ближе к печке.
Я вроде бы нехотя вошел в дежурку, сел на стул, прислонился к печке.
- Что, все горюешь по утопшей?
- Да. - Я старался говорить как можно жалостливее.
- Понятно... Человек - он чувствует... - Полицейский уселся поудобнее. - А где ты познакомился с этой женщиной?
Он вопрошал важно, словно судья, разговаривал пренебрежительно, как с ребенком. Мне показалось, что ему просто скучно в эту осеннюю ночь и поэтому он, придав себе значительность следователя, пытается выжать из меня что-нибудь непристойное. Это было ясно сразу, мне понадобились колоссальные усилия, чтоб подавить в себе ярость. Разумеется, я мог вообще игнорировать этот "допрос", но и сам видел в разговоре способ скоротать длинную ночь, а потому "давал показания", то есть нес вздор, который должен был удовлетворить похотливое любопытство полицейского; при этом я старался выглядеть благопристойно, изображать абсолютную веру в то, что именно это "расследование" этим полицейским будет иметь решающее значение при определении наказания. Короче говоря, я весь был смирение и покорность.
- Так-так... В общем, все ясно... Ты учти, честные ответы дадут мне возможность помочь тебе.
- Премного вам благодарен.
Играл я вдохновенно! Впрочем, эта игра ничего мне не давала.
Когда рассвело, меня вызвали к начальнику участка и начался настоящий допрос.
- О, да ты приличный парень. Такой не способен на дурное. Тут не ты, а мать, родившая такого тебя, виновата.
Молодой смуглый начальник полицейского участка производил впечатление интеллигентного человека с университетским дипломом.
После его слов я почувствовал себя забитым, жалким, ну, как если бы полщеки у меня занимало родимое пятно, или если б по какой-нибудь другой причине у меня был отталкивающий вид.
Допрос, который провел начальник участка (наверняка неплохой дзюдоист или фехтовальщик), как небо от земли отличался от пристрастного, дотошного "допроса", учиненного пожилым полицейским.
В конце его, собирая бумаги для прокуратуры, полицейский сказал:
- За здоровьем последи. Кровью не харкаешь?
Действительно, у меня в то утро был странный кашель, и на платке, которым я прикрывал рот, виднелась кровь. Но шла она не из горла, просто под ухом вскочил прыщ, я его выдавил и запачкал платок. Однако я почему-то счел, что лучше об этом умолчать, и на вопрос начальника, потупив взгляд, ответил с поразившей меня самого невозмутимостью:
-Да.
- Возбуждать или не возбуждать судебное дело решит прокуратура. А тебе надо бы позвонить или отправить телеграмму, чтобы в Иокогамскую
прокуратуру за тобою приехали твои поручители. Есть кому за тебя поручиться?
Я вспомнил Сибату, который был моим поручителем в гимназии - отцовский прихвостень, коренастый сорокалетний холостяк, родом из наших мест, антиквар; он часто появлялся у нас в токийском доме. Отец и я называли его Палтусом - лицо и особенно взгляд вызывали ассоциации с этой рыбой.
Тут же в участке в телефонной книге я отыскал номер этого Сибаты и попросил приехать за мной в прокуратуру города Иокогамы. Он согласился, хотя говорил со мной необычайно высокомерно.
Меня увели в соседнюю комнату. Там я случайно услышал, как начальник полицейского участка громко сказал:
- Ребята, продезенфицируйте телефонный аппарат, парень харкает кровью.
После обеда молодой полицейский обвязал меня вокруг бедер тонкой веревкой (чтобы ее не было видно, разрешили надеть накидку), крепко держа в руке ее конец, посадил в поезд и мы отправились в Иокогаму.
Как ни странно, чувствовал я себя прекрасно, мне даже приятно было вспоминать камеру, в которой провел ночь, старика-полицейского... (Отчего так?!) Преступник, связанный веревкой, я почему-то ощущал покой; даже сейчас, когда я описы
будут памятны мне как страшные провалы моей вечной игры. И позднее я много раз думал, что лучше было бы, наверное, просидеть десять лет в тюрьме, чем ощутить на себе такой спокойный и презрительный взгляд прокурора.
Мое дело было отсрочено. Но это нисколько не радовало; света белого не видя, я сидел в комнате ожидания прокуратуры, ждал своего поручителя Палтуса.
Позади меня высоко в стене было окно, из которого виднелось закатное небо, в нем летали чайки, выписывая в воздухе иероглиф "женщина".
Тетрадь третья
Одно из пророчеств Такэичи сбылось, а другое - нет. Сбылось совсем не почетное предречение о том, что я буду нравиться женщинам, а ошибся он, предсказывая мне будущее великого художника. Максимум, чего я достиг - был никому не известным карикатуристом в низкопробном журнальчике.





















