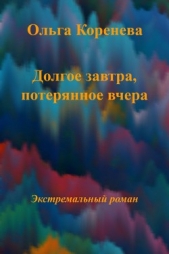Внук Тальони

Внук Тальони читать книгу онлайн
Петр Алексеевич Ширяев (1888-1935) - писатель интересной жизни и творческой судьбы, внесший определенный вклад в развитие русской советской литературы. В предлагаемый сборник избранных произведений писателя вошла повесть "Внук Тальони", написанная в духе лучших традиций русской литературы. Она посвящена жизни крестьянина Никиты Лыкова. В основе повести - борьба за народное счастье, за утверждение высоких гуманистических идеалов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На другой день, утром, во двор к Никите вошел Василий. Зачем — неизвестно. Никита чистил кобылу. Василий посмотрел на кобылу, на новую дверь в катухе, на окошко со стеклом и насмешливо сказал:
— Настоящим буржуем стал!
Потом еще раз взглянул на кобылу и произнес слово, которого не мог долго забыть Никита.
— Кобыла-то не иначе — краденая!
Никита с потемневшими глазами шагнул к брату и глухо проговорил:
— Уходи, сделай милость, не тревожь! Уходи!
Василий громко откусил кончик цигарки, сплюнул на новую дверь и пошел к воротам. У ворот обернулся и, увидя вышедшую из избы Настасью, мотнул головой, в сторону катуха и ядовито проговорил:
— В бедный комитет ни одного пуда не дал, а в катухе стекла вставил!..
Никита стоял около кобылы и, глядя на уходившего брата, крепко сжимал повод уздечки.
5
Наступил Михайлов день, а с ним — гулянки и веселье. По старому обычаю, все свадьбы в Шатневке приурочивались к престольному празднику восьмого ноября, замыкая собой трудовой круг весенней, летней и осенней страды в полях и на гумнах…
У церковной ограды с утра и до вечера, как в ярмарку, стояли десятки крестьянских подвод, убранные самоткаными цветными коврами, с расшитыми рушниками вокруг широких дуг, с колокольцами и со множеством ярко-цветных тряпочек и лент, вплетенных в хвосты и гривы лошадей…
В главном приделе церкви три священника, сменяя друг друга, венчали парней и девок. Ставили в ряд перед аналоем по шесть пар (больше не было венцов), нахлобучивали на глаза женихам и невестам тяжелые медные венцы и с торопливой усталостью свершали положенный обряд. В нетопленой церкви было мрачно и холодно, как в подземелье; изо ртов клубился пар; бархатные ризы священников, напяленные на теплую одежду, смешно топырились, из-под них выглядывали замызганные подолы стеганых подрясников и неуклюжие валенки; пахло овчиной и самогоном; вместо зажженных ослепительных люстр теплились жалкие восковые свечи, а хоровое пение заменял простуженный речитатив псаломщика, за которым никак не мог поспеть старательный и благочестивый тенорок пономаря. И венчальный обряд, лишенный торжественной пышности, был похож на диван с ободранной обшивкой.
Зато по селу, за стенами церкви, по всей Шатневке раскатывалось неуемное хмельное веселье. Крепкие и звонкие голоса девок, не признающие ни мороза, ни простуд, до поздней ночи горланили свадебные песни, им вторили осиплые и пьяные мужики; со дворов и изб в улицы пер самогонный дух и теплый аромат блинов; перекликались во всех концах гармоники, и сам председатель волисполкома Пеньков, Николай третий, как прозвали его шатневцы, три дня сряду приходил в совет с опозданием и никак не мог кончить начатый перед праздником доклад уездной власти.
Никита два дня гулял на свадьбе у дяди, выдавшего дочь, а на третий собрался с Настасьей и Семкой в выселки к свату, женившему сына… Готовиться к поездке начал с утра. Вычистил кобылу, заплел в гриву и расчесанный хвост узкие красные лоскутки, наложил в сани сена и поверх дерюги расстелил тканый шерстяной ковер с зелеными и красными разводами. Раньше запряжка лошади была для Никиты таким же пустяшным, незаметным делом, как, скажем, обуться утром. Сунул ногу в валенок — и готово. С появлением на дворе серой тетки Крепыша все переменилось. Веревочки, связывающие разорванную шлею, исчезли, все было подшито, заплатано и пригнано. Надвязанный веревкой повод заменен ремнем, к подпруге пришита новая пряжка, а вместо моченцового чересседельника появился новый, двойной, из сыромятного ремня, обильно смазанный дегтем.
Семка деятельно помогал отцу запрягать кобылу. Когда все было готово, Никита вынес из избы красные тесьменные вожжи. Эти вожжи он купил тайно от Настасьи у бывшего торговца, старика Бубнова. У Семки загорелись глаза. И хотя Лесть стояла смирно, как овца, он важно прикрикнул на нее:
— Шали-ишь, ну-у!..
Вышла Настасья в новом дубленом полушубке с отороченными рукавами и в вязаном платке; торжественно и неудобно она уселась на высоко взбитое сено, рядом с ней — Семка в отцовской шапке. Никита окинул довольным взглядом разукрашенную кобылу, сани, жену и пошел открывать ворота. В это время вошел во двор косорукий Григорий, исполкомовский кучер.
— Здравствуешь, Никита Лукич, с праздничком!
Сунув под мышку левой неисправной руки бадик, скособочившись, он полез в карман штанов и долго в нем рылся. И, роясь, пыхтел и выговаривал по одному слову:
— Тут… вот… Никита Лукич… принес… пове… повестку… принес тебе.
Враждебно следил за ним Никита, и бумажку со штампом и печатью взял недоверчиво. Читать он не умел и спросил:
— Это насчет чего же?
Григорий удрученно махнул рукой.
— От председателя.
И погрузился в неторопливое свертывание цигарки.
Никита долго вертел повестку в руках, смотрел на штамп, на печать, потом вскинул вопрошающий взгляд на Григория.
— В наряд ехать! — сказал Григорий. — В город судью везть, либо сам с тобой поедет.
— Не иначе Васька языком набрехал! — вырвалось со злобой у Никиты. — Чего теперь будешь делать?
— Сперва Митрия Уклеина хотели нарядить, баба-то его в совете как раз была, — охотливо заговорил Григорий, — ну, а сам-то приказал до тебя иттить: кобыла, говорит, у него подходящая.
— Он, Васька! — убежденно повторил Никита и насупился. — Ежели в совет теперь иттить, просить, чтобы ослобонил — во внимание не примет, а не поехать — посодит и штраф наложит!
— Это уж без сомнениев, обязательно припечатает, хара-актер-ный, стра-а-асть! — подтвердил Григорий и посмотрел на разукрашенную ленточками кобылу. — Куда собрался-то?
— К свату, к Прохору.
— Что он, аль сына женил?
— Женил.
— У кого ж взял? Выселковую?
— Нашу шатневскую… Лутовинова Матвея знаешь? Ну, у него самого.
— Это Дашку?
— Ее самую.
— Та-ак!.. Что ж, девка справная, работящая и в самом прыску, кровь с молоком!.. Ну, Никита Лукич, я пойду, чего сказать-то, аль сам приедешь?
— И не придумаю, как теперь быть! — развел Никита руками. — Не миновать самому в совет иттить!
Закутанная Настасья все время, пока мужики разговаривали, сидела в санях, не шевелясь, как будто не касалось ее ничто, происходившее вне саней, застланных узорным праздничным ковром. С поджатыми губами, степенно выпрямленная, смотрела прямо перед собой и ждала, когда Никита кончит разговор и откроет ворота в шумно-нарядную, праздничную улицу.
— Ну, баба, — повернулся к ней Никита, проводив Григория, — слазь, приехали!
И повернул кобылу от ворот во двор.
В волости про Пенькова говорили разное… Некоторые даже утверждали клятвенно, что он и не матрос.
С бритой головой, отчего прежде всего в глаза бросались черные густые усы, Пеньков с неутолимой свирепостью всюду и везде выискивал контрреволюцию.
На сходках и на расширенных заседаниях волисполкома выступал редко, подгоняя свое выступление к концу. Выйдет, уставится поверх голов водяными и словно невидящими глазами и начнет… Голос у него был глухой и низкий, словно кто водил тихо пальцем по барабану. Начало его речи крестьяне слушали вяло, как и речи других ораторов, выступавших от власти; любопытствовали больше не тому, о чем говорят, а манере говорившего. Каждый из них приносил на собрание свой взгляд и свой план, продуманный и выверенный у себя в избе в долгие зимние вечера, а так как хозяйственный уклад, определявший эти планы, был приблизительно у всех одинаков, то и случалось часто так: говорит оратор, распинается, доказывает и убеждает, а крестьяне слушают, молчат и как бы соглашаются, а дошло дело до голосования — все, как один, против… Пеньков крестьян знал. Покончив с деловой частью речи, его глухой и низкий голос вдруг, как стриж, взмывал тончайшим пронзительным фальцетом:
— Това-ри-щи-и!!!
И перебрасывал водянистые глаза в первые ряды слушателей, на одно какое-нибудь лицо… Только тут и начинался настоящий Пеньков. Потрясая руками, он громил буржуев, грозил расправой контрреволюции, стучал кулаком по столу, скрипел зубами, плевался и растирал плевки ногой, его бритая голова багровела, и шрам на ней был похож на веревку.