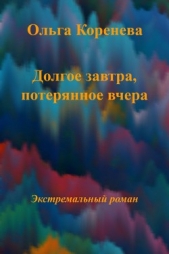Внук Тальони

Внук Тальони читать книгу онлайн
Петр Алексеевич Ширяев (1888-1935) - писатель интересной жизни и творческой судьбы, внесший определенный вклад в развитие русской советской литературы. В предлагаемый сборник избранных произведений писателя вошла повесть "Внук Тальони", написанная в духе лучших традиций русской литературы. Она посвящена жизни крестьянина Никиты Лыкова. В основе повести - борьба за народное счастье, за утверждение высоких гуманистических идеалов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Хаос, претворенный божественной волей в стройное мироздание, дает нам пример и указует пути деятельности, — думал он, подходя к дому. — Если бы сын Лести не пал, мы имели бы тому прямое доказательство; в знаменитом Бадене завода Вяземских кровь Элекшионера повторяется в четвертом поколении три раза со стороны отца и со стороны матери один раз…»
— Наши марьевские отродясь безлошадные были! — громко проговорил знакомый Бурмину голос за углом кухни.
Потом было слышно, как кто-то вздохнул.
— Сколько их тут-то, — продолжал тот же голос, — стра-асть! Ежели по одной на хозяйство распределить, на две Марьевки хватит!
— Куды-ы там, на всех достанется! — согласился поспешно другой голос.
Бурмин остановился. Один из говоривших был повар Димитрий — он сразу узнал его по голосу.
— Кобылу я давно облюбовал себе, и-ых, и кобыла!.. — продолжал Димитрий, понижая голос. — Полста пудов упрет — не крякнет, да еще годовичка на примете держу… Хозяйство справлю первый сорт!
— Форменно справишь! — поддержал другой и, помолчав, раздумчиво проговорил:
— Ну, только я тебе, Митрий Егорыч, скажу — неспособна такая лошадь для крестьянского дела, к другой жизни приучена, и опять же корма… Заводская лошадь она не стоит, играет…
— Игра-ает! — насмешливо перебил Димитрий. — Играет она с жиру, небось у меня не заиграет, накручу воз потяжелее, да заместо овса соломки, сразу осажу в правильное положение, всех господ позабудет!
Самым странным в этом разговоре Бурмину показалось то, что его повар говорит о каком-то хозяйстве, что у Димитрия в Марьевке есть хозяйство… Это его удивило и рассердило. Димитрий был повар, человек, приставленный к кухонной плите. Девять лет изо дня в день каждое утро он подавал ему через Адель Максимовну на утверждение письменное требование на продукты, необходимые на обед, завтрак, ужин; девять лет мысль Бурмина не отделяла имени Димитрия от рода определенных, точных названий: ботвинья, бульон, битки, суфле, бланманже и пр.; девять лет по понедельникам он ходил с ним в баню, раздевал, мыл и одевал его, и никогда Бурмин не замечал, чтобы у повара Димитрия была еще жизнь, кроме жизни кухонной и понедельничной банной… И вдруг — какое-то хозяйство, марьевские интересы, собственная лошадь?! Повар — и собственное хозяйство! Повар — и собственная лошадь! Повар — и такие разговоры?!
«Уволить!» — решительно отметил в мыслях Бурмин и хотел выйти к разговаривавшим, но в это время к ним подошел третий — ночной сторож Степан, вернувшийся с фронта без руки год назад. Как и Димитрий, Степан был из Марьевки.
— Степан, ты? — спросил Димитрий тихо.
— Я, а то кто же!..
— Когда постановлено лошадей-то у нашего Ирода разбирать?
— Со снопами управимся — и разбирать! — угрюмо ответил Степан, слышно сплюнул и добавил: — По мне, хоть сейчас зачинай!
Дальше Бурмин не слушал… В тишину старой липовой аллеи ринулись дикие образы хаоса. Все знакомое, давнее, привычное, мирное вдруг исказило черты и стало неузнаваемым. По-иному свистела на болоте поганка, а звонкая стукушка ночного караульщика отбивала торопливый счет минутам стремительно уходившего срока…
— Ре-во-лю-ци-я!..
В первый раз произнес Бурмин слово, которого никогда не произносил, которого не хотел ни слышать, ни знать. И стены огромного кабинета, увешанные снимками рысаков и диаграммами, многократным эхом возвратили слуху произнесенное слово:
— Ре-во-лю-ци-я!!!
Утром на следующий день Аристарх Сергеевич Бурмин уехал в город, а через три дня в имении появились солдаты, присланные для охраны конного завода губернским комиссаром Временного правительства. Бурмин переменил характер своей работы. Лошадей сменили люди. В длинных списках имен и фамилий синий карандаш отмечал тех, кто казался Бурмину подозрительным. Но чем больше он размышлял над списками, тем все меньше оставалось в них имен и фамилий, не отмеченных синим крестиком…
Верной помощницей в этом деле была Адель Максимовна. Как старьевщик тряпье, собирала она жадно по кухням, в людской, в прачечной обрывки фраз, слова и вздохи, прерванные разговоры и намеки и сносила все это в кабинет Аристарха Сергеевича Бурмина. Ползал сверху вниз, снизу вверх по спискам синий карандаш, метил крестиком обнаруженную революцию, подсказывал из-за спины низкий мужской голос Адель Максимовны, и облегченно вздыхал с каждым днем Аристарх Бурмин — шла на убыль революция в списках… Отпуская верную экономку, он говорил:
— Ступайте и помните: не ре-во-лю-ция, а разбо-ой, не повар, а Дан-тон! Идите! Благодарю вас!
Когда в списках осталось только четыре имени: Адель Максимовны, Лутошкина, приказчика Федора Епифанова и конюха Якова, пропавшего без вести на фронте полгода назад, — Бурмин призвал вечером Лутошкина к себе в кабинет и начал так:
— Сто лет тому назад император Александр I, осчастливив своим посещением Хреновский завод, выразил графине Орловой-Чесменской желание иметь некоторых жеребцов ее завода. И что же? Четыре, намеченные в подарок августейшему гостю, жеребца были предоставлены ко двору, но уже меринами…
Бурмин сделал долгую паузу, во время которой испытующе и вопросительно смотрел на Лутошкина. Потом продолжал, не повышая и не понижая голоса:
— Графиня не могла поступить иначе — воля ее великого родителя была священна. Граф Алексей Григорьевич завещал не продавать из завода жеребцов иначе, как меринами. Он хотел сохранить в чистоте выведенную им породу.
Указательный палец в широком золотом перстне выразительно стукнул по столу.
— Так была нарушена воля императора. История оправдала это. Почили в бозе император, и граф, и его дочь, а орловский рысак живет. В моем заводе собран лучший маточный материал чистейших орловских кровей. Не налагает ли это на нас с вами высокую обязанность принять все доступнейшие нам меры к его сохранению? Уточняя свои наблюдения за людьми конюшни, вы безошибочно произнесете свое суждение о каждом, ибо в обращении с лошадьми может укрываться анархия и дантоновские бредни. Вот список людей, подлежащих немедленному увольнению.
Лутошкин улыбнулся. Скользнув по списку глазами, он вскинул их в упор на Аристарха Бурмина. И проговорил раздельно:
— Бесполезно это. Всему бывает конец. Орловский рысак, может, и останется, а коннозаводчикам — крышка, Аристарх Сергеевич! Сейчас что ни конюх — то Емельян Пугачев. Мне видней…
— Емелька Пугачев был посажен в клетку-с! — перебил его Бурмин и, подумав, сухо скрипнул:
— Ступайте!
Когда Лутошкин вышел, синий карандаш поставил крестик в списке против его имени.
Через сутки после этого разговора, отряд, присланный для охраны завода, неожиданно покинул именье, а в следующую ночь в спальню Аристарха Сергеевича Бурмина вбежала полуодетая Адель Максимовна с криком:
— Дан-то-он!!!
Сон Бурмина треснул огненной трещиной… Крик экономки бросил в мозг дикие образы…
— Ре-во-лю-ци-я!!!
В папильотках, в одной рубашке, с невыразимым отчаянием схлестнув руки на плоской груди, Адель Максимовна смотрела огромными глазами в дверь кабинета, вымазанного багровым отблеском пожара… Бурмин выпрыгнул из постели в кабинет, к одному окну, к другому, к окнам, ко всем окнам, толчком распахнул самое большое, венецианское, и услышал свистящее пламя, увидел стремительные валы дыма, толпы людей, услышал и рев, и ржанье, и треск взламываемых дверей и, отступая от окна, от пожара, от рева, от треска, от свиста, от революции в глубь кабинета, повел обезумевшими глазами по стенам…
Все они были здесь. В порядке строгом и неизменном. И гордый красавец Крепыш, и величавый отец его Громадный, и Кокетка, и стальной, в яблоках, Гранит барона Толя, и Любезный… Все, все, все!… Из черных с позолотой рам отчетливо выступали линии и круги диаграмм, а против письменного стола в багровом блике бешено уносился на могучем сером Барсе граф Орлов-Чесменский…
Аристарх Бурмин протянул к нему руки.
И в первый раз в жизни возвысил голос до безнадежного стонущего вскрика: