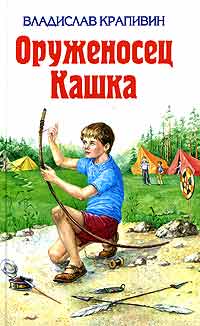Рыцарь Фуртунэ и оруженосец Додицою
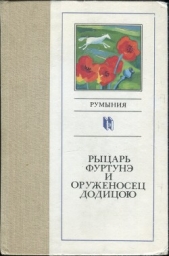
Рыцарь Фуртунэ и оруженосец Додицою читать книгу онлайн
В сборник «Рыцарь Фуртунэ и оруженосец Додицою» входят рассказы румынских писателей 70—80-х годов о прошлом и настоящем Румынии, психологические, сатирические, исторические, рассказы-притчи и рассказы-зарисовки, дающие представление как о литературе, так и о жизни современной Румынии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я шагал в похоронной процессии. На тесных улочках, между высокими домами из красного кирпича, моросил мелкий дождик и клубился черный дым. Где-то играли траурный марш. (Терпеть не могу Брамса в переложении для медных инструментов.) Мы уже подходили к кладбищу, и я подумывал о том, что не худо бы передать шоферу, чтобы он подъехал как можно ближе к воротам. Вдруг ко мне подошел очень бледный, сутулый, весь скрючившийся под своим громадным зонтом человек. Я узнал Германа. Слуга и лаборант профессора Фрониуса робко глядел на меня влажными глазами, тихо поздоровался.
— В чем дело, Герман? — спросил я его. — Что-то стряслось?
Он без конца сморкался в огромный платок и всхлипывал, как ребенок.
— Господин профессор, — пролепетал он сквозь слезы, — ведь они умерли, задохнулись, как крысы…
— Да, кстати, как там твои мышки в лаборатории?
Он уставился на меня долгим тупым взглядом, словно не понял моего вопроса. Затем повернулся и, не прощаясь, быстро пропал в толпе. «Tel maître, tel valet»[16] — решил я и напрочь забыл об этой встрече.
Вскоре начались дожди. Наши долгие, невротичные весенние дожди. Где-то в апреле произошло несчастье — идиотское, бессмысленное несчастье, после которого мне пришлось принять должность декана. Заведующий кафедрой логики стоиков был обнаружен как-то вечером, часов этак в семь, висящим в подвале своей виллы. Самоубийство. От любви, от шизофрении или от пьянства — бог его знает. Во всяком случае историю преподавателя логики, старого профсоюзного деятеля, избравшего вместо сократовской цикуты (мог бы додуматься) телефонный шнур, не так-то легко переварить. Не говоря уже о совершенно гротескном завещании, в котором он объявляет единственной своей последней волей, чтобы обе его кошки были приняты на содержание ректората. (Даже не хочется вспоминать, что он писал в постскриптуме этого так называемого завещания: он просто-напросто посылал нас куда подальше, утверждая, что «все мы надоели ему до смерти, затюкали до нет спасу и — о чем это? — вымарали с ног до головы». Скандал.) Пришлось устроить ему торжественные похороны: газеты считали коллег ответственными за его смерть… В довершение всего мне выпала незавидная честь произносить на кладбище речь от имени профессорского состава. Что можно сказать на могиле преподавателя логики, покончившего самоубийством и оставившего миру вместо собрания сочинений двух сиамских кошечек? И ведь действительно — ни единой рукописи. Ни цитаты, ни лозунга. Ничего, кроме ругани и зазнайства.
Все, естественно, завершилось благополучно, оркестр играл реквием, и я, высоко поднимая ноги в замызганных лаковых башмаках, пытался выбраться из толпы и удрать домой. Все, о чем я мечтал, была ванная и теплая постель… У самого выхода кто-то вдруг грубо схватил меня сзади за локоть. Мне стало не по себе. Уже почти совсем стемнело, в густом тумане покачивались на ветру невысокие кладбищенские пинии. Я нехотя обернулся.
В черном костюме, аккуратно выбритый, рядом стоял Фрониус. На этот раз он выглядел и держался необычайно корректно, с почти академическим достоинством. И все же видно было, что он сильно возбужден. Глаза горели, лоб покрывали бисеринки пота.
— В чем дело, коллега? — спрашиваю. — Никак перебрал?
— Черта с два, — отвечает, — просто я счастлив. Счастлив, как жених за час до брачной ночи.
Я решил, что он повредился от горя: поговаривали, будто Стоиков благоволил к нему за роднившую их склонность к выпивке.
— Ты должен, обязательно должен на них взглянуть! — шептал он мне в самое ухо, точно заговорщик-фанатик. — У них стало получаться ну просто здорово!
— У кого «у них»? — Я тщетно пытался высвободить руку из его грубой клешни, но Фрониус насел на меня с пущим азартом:
— Мыши. Эксперимент удался! Представляешь себе? Удался!..
— Не может быть, — пробормотал я с недоверием и даже с некоторой досадой. — Это полностью, совершенно исключено.
— Поехали, сам убедишься. Я на машине.
— Извини, любезный, но ты же видишь, в каком я виде. Решительно не могу заниматься наукой в заляпанной грязью обуви…
— Брось. Герман позаботится о твоих башмаках. Поехали, не пожалеешь!
Что мне оставалось делать? Мы уселись в машину и в неловком молчании тронулись в путь. Всю дорогу я терзался сомнениями и ломал голову: неужели он прав? Значит, случаются еще чудеса? Может ли быть, чтобы кусочек отменного импортного сыра и две основательно проинструктированные мышки посягнули на существующий мировой порядок?.. Смешно!
Герман открыл нам, взял у меня мокрое пальто и обувь — туфли, уже вычищенные, почти тут же принес обратно и помог мне обуться, однако за все это время не проронил ни слова. Я решил, что от постоянного общения с животными он окончательно потерял дар речи. Что-то в этом человеке раздражало меня: я чувствовал, он меня не уважает, даже ненавидит; во взгляде его таилось презрение и плохо скрываемая угроза.
В лаборатории все было приготовлено, словно специально для демонстрации. Еще сильнее, чем в прошлый раз, пахло мышами и застарелым сыром. Я взглянул на «арену» — вроде никаких изменений, лишь «А» и «Б» показались мне кругленькими, отъевшимися.
— Как ты их различаешь? — спросил я у Фрониуса, неуклюже влезавшего в халат.
— Да очень просто, они же совсем не похожи.
— Для меня они — как две капли воды.
— Это тебе просто кажется, потому что ты с ними не работал. Давай пометим «Б» синими чернилами, для наглядности. Кстати, «Б» умнее и ошибается гораздо реже, чем «А»… Этот зато настырен, упрям и жаден: смахивает на нашего ректора и еще на одно лицо, чье имя лучше вслух не упоминать.
— Значит, они успели дифференцироваться?
— В какой-то степени. Психологически. Зато на социальном поприще у них полная гармония. Сам увидишь. По-моему, нигде на свете не найти больше такого вдохновенного сотрудничества.
— Что ж, посмотрим. — Я глубоко вздохнул и водрузил на нос очки.
Фрониус весь как-то напрягся. Когда он подходил к своим кнопкам, лицо его становилось непроницаемым и жестким, как лицо командира батареи, собирающегося отдать приказ о первом залпе в первый день новой мировой войны. Впрочем, может быть, мне это только казалось. Даже противная физиономия Германа превращалась в полутьме лаборатории в сакральную маску жреца неведомой кровавой религии.
Под нашими плотоядными взглядами зеленая арена наполнилась ярким светом. Мышки мелко-мелко задрожали, затем успокоились. Тоненько зазвенел колокольчик, и возле дверцы мышиного закутка вспыхнул точечный огонек.
— Я стал разнообразить сигналы, — объяснил Фрониус. — При сочетании слуховых, зрительных и обонятельных стимулов эксперимент получается эффектнее…
— Можно закладывать сыр? — хриплым голосом спросил Герман.
— Да.
Герман принялся за дело. Методично, без лишних движений длинным хирургическим пинцетом просунул в щелку небольшой кусочек сыра.
— Теперь слушай внимательно, — сказал Фрониус. — По ходу эксперимента пришлось ввести несколько второстепенных элементов, дополняющих первичную чистую схему. Мои подопечные — мальчики; следовательно, для того чтобы у них не возникало сексуальных комплексов, я раз в неделю пускаю их на целую ночь к девочкам: пусть порезвятся. Наутро — обратно в клетку… Ну а чтобы они от скуки или от избытка сил не затевали драку, я подкладываю обрезки и обрубки всяких материалов (вон, в углу, видишь?), которые можно грызть. Пусть точат зубы на досуге, зато они при деле и наверняка ничего не попортят.
— Все это несколько напоминает «Kraft durch Freude»[17], обыкновенный фашизм. Тебе не кажется?
— Это меня не касается. Я как ученый не позволяю себе никаких предрассудков: знание рождается только из опыта. Главное — цель, а вовсе не применяемые для ее достижения средства.
Я нагнулся, чтобы лучше разглядеть зверьков. Меня волновало, раздражало почему-то синее пятно на спинке мышонка «Б». («Глядя с недосягаемых и чистых высот Единичного, — писал я в своей книге, — видно, что каждый человек, любой индивид отмечен неким знаком, цветной полоской особого, только ему присущего спектра, в котором заложена его счастливая или несчастная участь, судьба…») Да-с. Да…