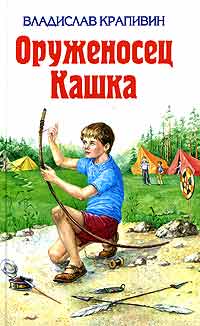Рыцарь Фуртунэ и оруженосец Додицою
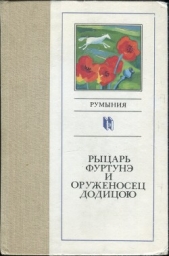
Рыцарь Фуртунэ и оруженосец Додицою читать книгу онлайн
В сборник «Рыцарь Фуртунэ и оруженосец Додицою» входят рассказы румынских писателей 70—80-х годов о прошлом и настоящем Румынии, психологические, сатирические, исторические, рассказы-притчи и рассказы-зарисовки, дающие представление как о литературе, так и о жизни современной Румынии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Домой я возвращался кружным путем, минуя Аллею, что утыкалась прямо в берег речушки. Аллеей торжественно именовалась улочка, застроенная домами поселка, а по краям — уродливыми бараками, воняющими отхожими местами и дезинфекцией, слегка замаскированными тощими пыльными акациями. Там, где Аллея почти вплотную подходила к речушке, стояло длинное нелепое неоштукатуренное здание, напоминающее казарму, — наша школа.
Итак, я возвращался домой задворками, мимо полусгнивших заборов, которые не могли послужить препятствием оголодавшим ворам — в поселке подозревали, что воруют разношерстные обитатели бараков. Порой причины этих набегов так и оставались невыясненными, они казались неимоверно смешной местью и все же вызывали брожение умов жителей поселка. Так однажды ночью на огороде нашего соседа таинственные воры собрали весь перец в огромную кучу и «осквернили» ее, — просто диву даешься, как это им удалось. Хотя, голову даю на отсечение, ни один перец с огорода не пропал. На другой день с утра пораньше на огороде соседа было форменное паломничество: мужчины, женщины и дети, все хотели полюбоваться на загаженный перец. Никто не шутил, все были чрезвычайно озабочены, словно чувствовали: тут кроется что-то серьезное, какое-то предупреждение, предупреждение чужаков, желающих помешать их мирной рабочей и крестьянской жизни; они были рабочими, но по-прежнему хранили свои деревенские привычки, с которыми спустились с величественных гор, возвышающихся над этим краем.
Сквозь дыру в заборе я влезал в наш сад, осторожно пробирался через малинник, попадал на поросшую травой дорожку. Дорожка была чуть ли не в метр шириной, а по обеим сторонам от нее тянулись грядки.
Позже, когда я поступил в гимназию и мои представления о легкой атлетике расширились, я любил тренироваться на этой дорожке в тройном прыжке, следя за тем, чтобы никто меня не увидел. Эта осторожность была просто-напросто боязнью показаться смешным. Она появилась у меня в один прекрасный вечер, когда я, набегавшись, как обычно, возвращался домой, замедлив по своему обыкновению шаг около нашего сарайчика, где стояли кадки с соленьями — по большей части с капустой, — где держали картошку и лук, припасенные на зиму. Возле сарая возвышалась акация с редкими ветвями; я легко взбирался на нее — это был мой наблюдательный пункт, откуда я видел почти весь поселок и даже школьный двор. Миновав сарайчик, я окидывал рассеянным взглядом ульи, вокруг которых росла ночная красавица, крался мимо свинарника и курятника, открывал калитку и оказывался перед домом, а вернее, перед тремя — на две квартиры каждый, расположенными метрах в двадцати друг от друга. В нашем доме жила еще семья господина Марчи, шофера комбината. Как ни странно, но дома не были обнесены заборами. Может, начальство комбината запрещало заборы — как знать? — потому что иначе трудно себе представить, что люди — в том числе и мой отец, — которые только тем и занимались, что чинили заборы вокруг садов и курятников, не огородили собственные жилища. Хотя в общем-то ни дома, ни сады, ни дворы не были их собственностью, все принадлежало комбинату; они же были всего-навсего «квартирантами», правда, очень давними квартирантами, которые вносили чисто символическую квартплату, давно уже приобрели замашки владельцев и тряслись над каждой доской, над каждым деревом в саду и даже над теми деревьями, что возвышались напротив дома, в Аллее.
В один из летних вечеров я вернулся домой, набегавшись, как обычно, по тропке вдоль речушки, и застал отца сидящим у крыльца на скамейке — каждое семейство, как оно и подобает выходцам из деревни, имело свою собственную скамейку, и они симметрично располагались по обе стороны от крыльца. Не знаю почему, но я всегда чувствовал угрызения совести, если надолго уходил из дома; и хотя меня никогда не ругали за это, я считал, что есть в чем меня упрекнуть: хозяйство у нас было чуть ли не натуральное, и для такого парня, как я, всегда бы нашлась работа.
Солнце садилось, и крупную фигуру отца будто обволакивал на сером фоне стены желтоватый свет. Отец редко когда усаживался отдохнуть, обычно он что-то делал по хозяйству и молчал при этом часами. Поманив меня рукой, он сказал: «Поди-ка сюда, голубчик». Обращение «голубчик» было верным признаком неблагополучия. «Да, отец», — сказал я, набираясь храбрости, и пошел, украдкой разглядывая его большое, непроницаемое лицо. В конце концов у меня каникулы, — думал я, — уроки делать мне не надо, я, в конце концов, еще маленький, имею право и побегать; но я совсем не был уверен в своей правоте, с детства мне внушали, что добропорядочные люди не бегают попусту, что они всегда заняты делом, а главное в жизни — это чувство долга, а те родители, которые попустительствуют своим детям, всячески их балуя, достойны порицания, так как не только портят своих детей, но и посягают на испокон веку установившийся уклад; как-то, когда мы с братом подрались, отец сказал нам, что жизни нужно противостоять, стремясь к порядку и взаимопониманию; тогда я ничего не понял, но запомнил суровый голос отца, отчеканивший эти слова.
Время от времени, хотя и очень редко, отец «читал нам мораль». Это не были советы или беседы, он сурово поучал, а нам надлежало только слушать; мне ни разу не представилось возможности узнать, как реагировал бы отец, если бы я или брат вдруг вставили слово в это поучение — в отце была какая-то подспудная сила, которая наделяла его значительностью, внушала страх и одновременно уважение. Возражать отцу было просто немыслимо, рядом с ним мы с братом чувствовали себя младенцами и все, что бы он ни говорил нам, воспринимали как непреложную истину, а когда вдруг сомневались, так ли уж она непреложна, то сдерживали свой кощунственный порыв (впрочем, это было лишь иллюзией порыва); на деле же мы гордились его твердыми принципами, благодаря которым часть данных истин стала вызывать у нас гордость. Наша семья стояла особняком в этом тесном мирке. Мой отец, работавший мастером на комбинате, и впрямь был человеком в особицу. Возможно кое-кому казалось странным, что, приходя с работы домой, он возится в свинарнике, в саду, около ульев, оставаясь при этом суровым и отчужденным. Его рост, физическая сила (увы, кулак при всех обстоятельствах остается решающим аргументом) внушали окружающим уважение, а холодный взгляд серых, слегка навыкате глаз держал их на почтительном расстоянии. Он к тому же не пил, не курил, а стало быть, у него не было собутыльников, этих ненадежных друзей, всегда готовых прийти «на помощь» и подвести тебя под монастырь. Среди общительных, благодушных людей, которые знали друг про друга всю подноготную и не стеснялись обсуждать это, а иными словами — сплетничать (надо отдать им должное: за все прожитые мной впоследствии годы я больше не встречал такой чинности, благопристойности, какие были в этих бывших крестьянах), мой отец, ежедневно беседуя о свиньях, курах, овощах, пчелах и комбинате, умудрялся держаться особняком и казался прочно защищенным от чужого любопытства, но именно эта особенность его характера, соединенная с присущей ему незаурядностью, и возбуждала крайнее любопытство, так что жить тихо и незаметно, как ему бы хотелось, не удавалось.
Пройдет много времени, прежде чем я пойму, что по природе он был одиноким, ужасающе одиноким человеком, который терпеливо, приложив много сил и стараний, создал себе образ жизни вопреки собственной природе. Когда он говорил, что жизни нужно противостоять, он, быть может сам того не подозревая, говорил о себе, о постоянной борьбе с самим собой; четырнадцати лет он ушел из дома, стал учеником ремесленника в Бухаресте, потом рабочим в Констанце; в четырнадцать лет, в этом трудном переходном возрасте, его отец — мой дед — заставил его бросить педагогическое училище. «Из-за чего?» — спросил я тетю Ливию и дядю Иона много лет спустя, когда и мне уже было под тридцать. Но они и сами толком не знали из-за чего, как не знали, чем занимался мой отец в течение двенадцати лет, пока он, в 26 лет, неожиданно не вернулся в наш городок с дипломом мастера-механика в кармане и не поступил работать на комбинат, который в то время был фабрикой взрывчатых веществ, а после этого вскоре женился.