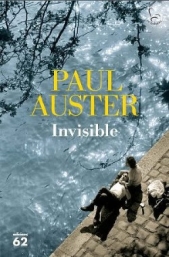Невидимый

Невидимый читать книгу онлайн
Ярослав Гавличек (1896–1943) — крупный чешский прозаик 30—40-х годов, мастер психологического портрета. Роман «Невидимый» (1937) — первое произведение писателя, выходящее на русском языке, — значительное социально-философское полотно, повествующее об истории распада и вырождения семьи фабриканта Хайна.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однако, как бы ни изображал я скорбь по поводу этой болотной смерти, не прошло и недели, как я просто разинул рот. Меня как громом пришибло. Хайн, этот профессор с виду, эта сломанная марионетка, сыграл со мной такую шутку, какой позавидовал бы самый закоренелый интриган!
Папаша Хайн оставил завещание. Завещаньице что надо, ничего не скажешь! А я-то и понятия не имел, что вообще существует какое-то завещание. Дельце это обстряпали без меня, — и против меня, — разумеется, тетка, Кунц и сам Хайн. И я был лишен возможности даже поблагодарить пана тестя за такую любезность…
Устроили они это хитро. Позднее мне лишь с большим трудом, по частям, удалось выудить у Паржика, как было дело. Паржик, конечно, был ни при чем. Я никогда его не спрашивал, что нового в доме, кто приходил да что делал, — а он не осмеливался сам докладывать мне. Филипа, судя по всему, не было дома. Они выбрали для осуществления своего замысла дождливый день, когда я был на заводе, а Кати занята ребенком наверху. Единственной посвященной особой из домочадцев была Анна. Хитрая лиса Анна, всегда готовая строить против меня козни. Ну, я этого не забыл, когда настало время, вернул ей должок, да с процентами.
Кунц привел второго свидетеля, патера Хуриха, которого, в сущности, нельзя ни в чем упрекнуть: тайна исповеди и прочие секреты — его ремесло. Притащили нотариуса Фриборта и сочинили славный документик, которым, в здравом уме и полной памяти, Хуго Хинек Хайн объявлял наследником всего своего движимого и недвижимого имущества (следовало точное перечисление — предприятия, вклады, текущие счета) — своего внука Петра Швайцара, сына своей единственной дочери Софии. Отец ребенка, Петр Швайцар, назначается опекуном сиротского имущества, а над ним, в качестве инстанции, перед которой он обязан отчитываться во всех коммерческих начинаниях, в купле и продаже, стоит опекунский суд. Этими мерами достигается, что отец, Петр Швайцар, не сможет отчуждить имущество сына и никоим образом сократить его, и в день совершеннолетия наследника обязан передать в его руки все движимое и недвижимое имущество без какого- либо урона. Все это слышали и скрепили своими подписями… — наверное, что-нибудь в этом роде.
Удачная проделка мертвеца, который после этого заблагорассудил скрыться в могилу! Удачная острота человека, никогда не понимавшего юмор! Воображаю, с каким блаженством внимала этой последней воле тетка, вращая парой своих пламенных шаров, как каждое ранящее меня слово она подкрепляла стуком жуткой своей булавы с насаженной на ней мертвой бабочкой!
По видимости, конечно, все до трогательности невинно. Разве были у меня иные желания, кроме как служить своему сыну? Разве хотел я жить для чего-либо еще? Не доказал ли я, и очень ясно, что готов ради сына на любую жертву? Но умирающий дед мне не доверял. Все эти само собой разумеющиеся вещи он желал закрепить законным актом. Он посмел костлявой своей рукой покуситься на свободу такого человека, как я!
Ибо что читается между строк этого завещания? Петр Швайцар, ты никогда не женишься, разве что ценой бесправия второй жены и остальных твоих детей. Все, что тебе вверили, — хайновское и принадлежит только Хайнам! Если же ты когда-либо, по тем или иным причинам, захочешь покинуть этот дом, то ничего с собой не унесешь.
Да разве я захочу покинуть своего сына? Думал ли я искать новые приключения? Мои намерения были самые лучшие. Я был готов отдать и жизнь и кровь, как говорится. Все свои силы. Но быть принужденным ко всем этим добродетелям — это мне, пожалуй, не по вкусу!
Покойник влепил мне пощечину из гроба. Я не хозяин своего добра, всякое свое разумное действие я обязан объяснять высшей инстанции. Хайн унизил меня в глазах общества. Тайна завещания стала явной — как все тайное. При встрече со мной многие не могли удержаться от многозначительной ухмылки. Что, мол, выкусил? Получай по заслугам! Ах, ты женился на богатстве Хайна? Повел себя в его семье как взбесившаяся лошадь? Во весь опор ринулся к цели? А вот на тебя и узду накинули! Усмирят!
Ну хорошо, хорошо — все это было весьма неприятно, однако я сумел в конце концов найти нужный тон — тон снисходительности. Ты дал мне в зубы? — Что ж, старик, кто старое помянет… Я-то давал тебе в зубы не раз — что с того, что ты ударил последним? Зато и было это напоследок… Верх-то все равно мой, потому что фамилия ребенка — Швайцар и он целиком, весь, принадлежит только мне. Не внук Хайна, — слышишь?! — а сын Швайцара!
Впоследствии я научился даже просто посмеиваться над этим. Раскланиваясь перед колыбелькой, я шутил: «Мое почтение, маленький пан фабрикант! Разрешите верноподданнейше доложить: дела идут хорошо! Соблаговолите положиться на преданного слугу! Заказы прибывают. Производство духов налажено отлично. Потребитель доволен. Не желаете ли заглянуть в книги? Мы уже с радостью ожидаем инспекции вашей милости!» И я смеялся и высоко подбрасывал это крепенькое, пухленькое, радостное существо.
Я смеялся… Да, тогда я еще смеялся. А скоро стало не до смеха. Очень скоро — и навсегда — оборвался последний мой смех!
Тетка Каролина не оставила после себя никаких любвеобильных распоряжений в духе папаши Хайна. Смерть ее не много произвела шума. Как-то даже и непохоже было на нее — угаснуть так незаметно! Почтенная, окруженная поклонением матрона, законодательница давних балов, властительница с Кунцем у ног — и вдруг так! Под конец она довольствовалась обществом глупой толстоногой служанки. А впрочем, что удивительного? Ничего другого ей и не оставалось. Как постелешь, так и ляжешь…
Не то чтобы я был груб с ней. Нет, этого нельзя сказать. Но милая старая дама была вдохновительницей некоего интересного документа — а я не заходил так далеко, чтоб делать вид, будто меня это вовсе не затрагивает. Ее, чего доброго, задело бы, если б я оставил без внимания ее змеиный укус! Нет, я вовсе не какой-нибудь анемичный альтруист. Я обыкновенный, простой человек, который умеет держать себя в руках, но не считает себя обязанным как-то там притворяться.
Да, да, она бы еще, чего доброго, обиделась! Ведь, подсказывая Хайну его последнюю волю, старуха должна же была знать, что вскоре останется одна со мной, одинокой в моем приятном обществе. Не могла она упустить этого из виду. Зачем же мне было смущать ее покой своими излияниями? Материально она была обеспечена — об этом позаботился Хайн. Одного не мог уже сделать старый господин — устроить так, чтоб я не… ну, скажем, не отказал от дома старому комедианту с рекламной бородой. Ледяная рука покойника сюда не дотянулась.
А славный улов — две мухи разом! Что же до благородной дамы, то — пожалуйста, живи себе у меня, только уж навсегда оставь меня в покое. Не желаю с тобой никакого соприкосновения. Никакого! Ты на первом, я на втором этаже. Будем терпеливо ждать. Ты уже очень стара, и есть у тебя твои драгоценные письма. Читай, читай прилежней! Да поторопись. Может, смерть-то нагрянет, когда ее и не ждешь. Побольше рвения, чтоб успела дочитать-то!
Кунц понурил свою лошадиную голову. То есть я думаю, что понурил, меня при этом не было, а у слов, написанных мной, нет глаз. Любовное послание к нему я составил в очень вежливой и ясной манере. Мол, благодарю за все дружеские услуги, оказанные дому, благодарю и за свою семью, и за покойного тестя, и искренне сожалею, что пути наши разошлись. Он понял. Да и как было не понять? Порой тетушка получала от него письмишки чуть ли не на розовой бумаге, на языке красок означающей любовь. С течением времени переписка стала глохнуть. Кунц все больше высвобождался из-под гипноза ее глазищ.
Старуха бродила по саду неверными ногами, сгорбленная, опираясь на свою странную клюку, губы ее шевелились — она что-то шептала, сама себе рассказывала то, что уже некому было рассказать. Не с кем ей было уже делиться воспоминаниями. Былая властность оборачивалась боком. Слишком резким был переход. Не радовало старуху монастырское уединение. Она хирела. Черная пелерина, чепец, завязанный под подбородком лентами, — последнее фамильное привидение… Очень молчаливое привидение — я, например, ни разу не заговорил с ней за все оставшиеся ей полтора года жизни.