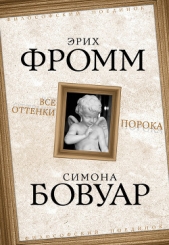Мандарины

Мандарины читать книгу онлайн
«Мандарины» — один из самых знаменитых романов XX в., вершина творчества Симоны де Бовуар, известной писательницы, философа, «исключительной женщины, наложившей отпечаток на все наше время» (Ф. Миттеран). События, описанные в книге, так или иначе связаны с крушением рожденных в годы Сопротивления надежд французской интеллигенции. Чтобы более полно представить послевоенную эпоху, автор вводит в повествование множество персонажей, главные из которых — писатели левых взглядов Анри Перрон и Робер Дюбрей (их прототипами стали А. Камю и Ж.-П. Сартр). Хотя основную интригу составляет ссора, а затем примирение этих двух незаурядных личностей, важное место в сюжете отведено и Анне, жене Дюбрея — в этом образе легко угадываются черты самой Симоны де Бовуар. Многое из того, о чем писательница поведала в своем лучшем, удостоенном Гонкуровской премии произведении, находит объяснение в женской судьбе как таковой и связано с положением женщины в современном мире. Роман, в течение нескольких десятилетий считавшийся настольной книгой западных интеллектуалов, становится наконец достоянием и русского читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— О! Спасибо! — с жаром поблагодарила я.
Живость его действий тронула меня; он сразу стал мне симпатичен из-за свойственной ему непосредственности; ему неведомы были готовые фразы и обычаи учтивости; свою предупредительность он импровизировал, и она походила на изобретательную нежность. Сначала я радовалась тому, что мне встретился классический американский экземпляр собственной персоной: левый-писатель-сделавший-себя-сам. Теперь же меня заинтересовал лично Броган. Из его рассказов явствовало, что он не признавал за собой никакого права на жизнь, а между тем ему всегда страстно хотелось жить; мне это нравилось — смесь скромности и ненасытности.
— Откуда у вас явилось желание писать? — спрашивала я.
— Я всегда любил печатную бумагу: когда я был ребенком, то сооружал газету, наклеивая газетные вырезки в тетрадь.
— Были, верно, и другие причины? Он задумался.
— Я знал множество разных людей: мне хотелось показать каждому, каковы на деле другие. Рассказывают столько всякой лжи. — Он помолчал. — В двадцать лет я понял, что весь мир мне лжет, и это повергло меня в страшный гнев; думаю, именно поэтому я и начал писать и пишу до сих пор...
— Вы все еще гневаетесь?
— Пожалуй, — сказал он со сдержанной усмешкой.
— Вы не занимаетесь политикой? — спросила я.
— Кое-что делаю.
Короче говоря, он находился примерно в той же ситуации, что и Робер с Анри; но он к ней приноровился с каким-то диковинным спокойствием; писать, выступать по радио, а иногда на митингах, разоблачая некоторые злоупотребления, этого ему вполне хватало; мне уже говорили: интеллектуалы могут жить здесь в безопасности, потому что сознают свое бессилие.
— У вас есть друзья писатели?
— О нет! — порывисто ответил он. И улыбнулся: — У меня есть друзья, которые начали писать, когда увидели, что я зарабатываю деньги, всего лишь садясь за пишущую машинку, но писателями они не стали.
— А деньги они заработали? Он откровенно рассмеялся.
— Один настучал за месяц пятьсот страниц; ему дорого пришлось заплатить за их публикацию, и жена запретила ему продолжать; он снова взялся за свое ремесло карманника.
— Это хорошее ремесло? — спросила я.
— Когда как. В Чикаго существует большая конкуренция.
— У вас много знакомых карманников? Он взглянул на меня с легкой насмешкой:
— С полдюжины.
— А гангстеров?
Лицо Брогана сделалось серьезным.
— Все гангстеры негодяи.
Он скороговоркой стал рассказывать мне о роли, которую сыграли в последние годы гангстеры как штрейкбрехеры; затем поведал множество историй об их взаимоотношениях с полицией, с политикой, с деловыми кругами. Говорил он быстро, и мне не без труда удавалось следить за его мыслью, но это было не менее волнующе, чем какой-нибудь фильм с Эдвардом Робинсоном {98}. Внезапно он умолк.
— Вы не проголодались?
— Пожалуй. Сейчас, когда вы навели меня на эту мысль, я поняла, что страшно голодна, — призналась я. И весело добавила: — Сколько разных историй вы знаете.
— О! Если бы я их не знал, то придумал бы, — ответил он. — Ради одного удовольствия смотреть, как вы слушаете.
Был уже девятый час, время бежало быстро. Броган повел меня ужинать в итальянский ресторан, и, уплетая пиццу, я спрашивала себя, почему мне так уютно с ним; я почти ничего о нем не знала, а между тем он вовсе не казался мне чужим; возможно, это из-за его беспечной бедности. Крахмал, элегантность, хорошие манеры — все это создает дистанцию; когда Броган расстегнул свою куртку, приоткрыв оказавшийся под нею выцветший свитер, а потом снова ее застегнул, рядом с собой я почувствовала доверчивое присутствие тела, которое испытывало жар и холод, — живого тела. Он сам чистил свои ботинки: достаточно было взглянуть на них, чтобы приобщиться к его интимной жизни. Когда, выходя из пиццерии, он взял меня за руку, чтобы помочь мне шагать по скользкой дороге, его тепло сразу же показалось мне привычным.
— Ладно! Я все-таки покажу вам кое-какие уголки Чикаго, — сказал он.
Мы зашли в одно заведение посмотреть, как раздеваются под музыку женщины; послушали джаз в маленьком дансинге черных; выпили в каком-то похожем на ночлежку баре; Броган знал всех: пианиста из того заведения с татуировками на руках, черного трубача в дансинге, бродяг, негров и старых проституток в баре; он приглашал их за наш столик, втягивал в разговор и смотрел на меня со счастливым выражением лица, потому что видел, что мне это интересно.
Когда мы снова очутились на улице, я с жаром произнесла:
— Я обязана вам своим лучшим вечером в Америке.
— Есть много всего другого, что мне хотелось бы показать вам! — сказал Броган.
Ночь подходила к концу, близился рассвет, и Чикаго суждено было скоро исчезнуть навсегда; но сталь надземного метро скрывала от нас расползавшееся по небу пятно проказы. Броган держал меня за руку. Впереди нас и за нами уходили в бесконечность черные арки, казалось, они опоясывают землю и мы будем шагать так целую вечность.
— Один день — это очень мало, — сказала я. — Мне надо вернуться.
— Возвращайтесь, — откликнулся Броган. И торопливо добавил: — Не хочется думать, что я вас больше не увижу.
Мы молча дошли до стоянки такси. Когда он приблизил свое лицо к моему, я невольно отвернулась, но успела почувствовать у своих губ его дыхание.
Несколькими часами позже в поезде, пытаясь читать роман Брогана, я все корила себя: «Это смешно, в моем-то возрасте!» Однако губы мои трепетали, как у девушки. Я никогда не целовала других мужчин, кроме тех, с которыми спала; но, мысленно представляя себе этот мимолетный поцелуй, я ощущала, что где-то в глубине моей памяти вот-вот отыщу жгучие воспоминания любви. «Я обязательно вернусь», — решила я. А потом подумала: «Зачем? Придется опять расставаться, и тогда уже у меня не будет возможности сказать себе: я вернусь. Нет. Уж лучше сразу не входить в издержки».
Я не сожалела о Чикаго. Скоро я поняла, что это составляет часть путевых удовольствий: дружеские связи без будущего и неглубокая печаль отъездов. Я решительно устраняла скучных людей и посещала только тех, кто был мне интересен; во второй половине дня мы гуляли, ночами пили и спорили, а затем расставались, чтобы никогда больше не встретиться, и никто ни о чем не жалел. Какой легкой казалась жизнь! Ни сожалений, ни обязательств, ни один из моих поступков не в счет, у меня не спрашивали совета, и я не знала другого принуждения, кроме своих капризов. В Новом Орлеане, выйдя из патио, где я напилась дайкири, я вдруг села в самолет на Флориду. В Линсберге я взяла напрокат машину и разъезжала целую неделю по красным землям Виргинии. Во время второго моего пребывания в Нью-Йорке я почти не смыкала глаз; я вперемежку видела множество людей и бродила повсюду. Дэвисы предложили мне поехать вместе с ними в Хартфорд, и через два часа я уже садилась вместе с ними в машину: провести несколько дней в американском загородном доме — какая удача! Это был очень красивый деревянный дом, весь белый, покрытый лаком, с маленькими окошками повсюду. Мэрием занималась скульптурой, дочь брала уроки танцев, сын тридцати лет писал герметические стихи; у него была кожа ребенка, большие трагические глаза и прелестный нос. В первый вечер, рассказывая мне о своих сердечных страданиях, Нэнси забавлялась тем, что нарядила меня в широкое мексиканское платье и заставила распустить по плечам волосы. «Почему вы всегда так не причесываетесь? — спросил Филипп. — Можно подумать, что вы нарочно старите себя». Он танцевал со мной до глубокой ночи. Чтобы понравиться ему, я и в последующие дни изображала молодую женщину. Я прекрасно понимала, почему он ухаживал за мной: я приехала из Парижа, и потом мне было столько же лет, сколько Мэрием в его отроческие годы. И все-таки я была тронута. Он придумывал для меня развлечения, приглашал на коктейли, играл мне на гитаре очень красивые ковбойские песни, возил по старинным пуританским деревням. Накануне моего отъезда мы задержались в гостиной дольше других, пили виски, слушая пластинки, и он с огорчением сказал: