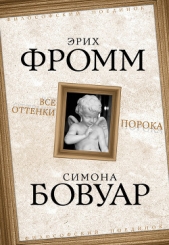Мандарины

Мандарины читать книгу онлайн
«Мандарины» — один из самых знаменитых романов XX в., вершина творчества Симоны де Бовуар, известной писательницы, философа, «исключительной женщины, наложившей отпечаток на все наше время» (Ф. Миттеран). События, описанные в книге, так или иначе связаны с крушением рожденных в годы Сопротивления надежд французской интеллигенции. Чтобы более полно представить послевоенную эпоху, автор вводит в повествование множество персонажей, главные из которых — писатели левых взглядов Анри Перрон и Робер Дюбрей (их прототипами стали А. Камю и Ж.-П. Сартр). Хотя основную интригу составляет ссора, а затем примирение этих двух незаурядных личностей, важное место в сюжете отведено и Анне, жене Дюбрея — в этом образе легко угадываются черты самой Симоны де Бовуар. Многое из того, о чем писательница поведала в своем лучшем, удостоенном Гонкуровской премии произведении, находит объяснение в женской судьбе как таковой и связано с положением женщины в современном мире. Роман, в течение нескольких десятилетий считавшийся настольной книгой западных интеллектуалов, становится наконец достоянием и русского читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Как только появится время, — уклончиво отвечал Анри. Когда дверь за ним закрылась, Анри спросил:
— Дни, которые ты провел в Лилле, были очень мучительны? Ламбер пожал плечами.
— Похоже, не слишком мужественно испытывать потрясение, когда у вас убивают отца! — с обидой в голосе произнес он. — Тем хуже! Признаюсь, меня это действительно потрясло!
— Понимаю, — сказал Анри и добавил с улыбкой: — А насчет мужественности, это все женские выдумки.
Какие чувства испытывал Ламбер по отношению к отцу? Он признавался лишь в жалости, угадывалась и обида: наверняка к этому примешивалось и другое — преклонение, отвращение, уважение, обманутая нежность; во всяком случае, этот человек что-то для него значил. Анри продолжал со всей сердечностью, на какую вообще был способен:
— Не сиди взаперти, не терзай себя. Сделай усилие, пойдем со мной, тебе будет интересно, и ты окажешь мне услугу.
— О! Ведь ты в любом случае располагаешь моим голосом, — возразил Ламбер.
— Мне хотелось бы знать твое мнение, — сказал Анри. — Скрясин утверждает, что какой-то высокопоставленный чиновник, сбежавший из СССР, предоставил ему будто бы сенсационные сведения, изобличающие режим, разумеется; он предложил Самазеллю, чтобы «Эспуар», «Вижиланс» и СРЛ помогли распространить эти сведения. Но какова их ценность? Я просмотрел кое-какие обрывки, но не имел возможности разобраться.
Лицо Ламбера оживилось.
— Ну это-то меня интересует, — сказал он, внезапно поднимаясь. — И даже очень.
Когда они вошли в кабинет Дюбрея, тот находился там вдвоем с Самазеллем.
— Вы только представьте себе: опубликовать подобную информацию раньше всех, да это будет сенсацией! — говорил Самазелль. — Последний пятилетний план датирован мартом месяцем, и о нем практически ничего не известно. Вопрос о трудовых лагерях {94}особенно поразит общественное мнение. Заметьте, что до войны он уже поднимался; в частности, этим была озабочена фракция, к которой я принадлежал; но в ту пору мы почти не нашли отклика. Сегодня все вынуждены занять определенную позицию в отношении СССР, и вот мы, оказывается, в состоянии представить эту проблему в новом свете.
После его басовитых раскатов голос Дюбрея казался едва слышным.
— Априори такого рода свидетельство вдвойне подозрительно, — заметил он. — Прежде всего потому, что обвинитель долгое время уживался с режимом, который теперь разоблачает; к тому же вряд ли можно ожидать, что, раз отмежевавшись от него, он взвешенно соразмеряет свои нападки.
— Что о нем доподлинно известно? — спросил Анри.
— Его зовут Георгий Пелтов. Он был директором Сельскохозяйственного института, — ответил Самазелль, — и месяц назад сбежал из русской зоны Германии в западную зону. Его личность полностью установлена.
— Но не его характер, — заметил Дюбрей. Самазелль нетерпеливо отмахнулся:
— Во всяком случае, вы изучили досье, которое передал нам Скрясин. Сами русские признают существование лагерей и административное интернирование.
— Согласен, — сказал Дюбрей. — Но сколько людей в этих лагерях? Вот в чем вопрос.
— Когда в прошлом году я был в Германии, — вмешался Ламбер, — ходили слухи, что никогда в Бухенвальде не было столько пленников, как после русского освобождения.
— Пятнадцать миллионов мне кажутся вполне умеренным предположением, — заметил Самазелль.
— Пятнадцать миллионов! — повторил Ламбер.
Анри почувствовал, что его охватывает паника. Он уже слышал разговоры о лагерях, но смутно и не задумывался об этом: столько всего рассказывают! Что же касается досье, то он перелистал его без всякой убежденности; он не доверял Скрясину; на бумаге цифры казались столь же нереальными, как и названия с причудливыми созвучиями. Но вот, оказывается, русский чиновник действительно существует, и Дюбрей принимает это дело всерьез. Неведение — вещь очень удобная, но оно не дает представления о реальности. Несколько часов Анри провел с Жозеттой в «Иль Борроме», стояла прекрасная погода, он позволил себе некую совестливость, легко, впрочем, преодоленную. А тем временем во всех уголках земли людей эксплуатировали, морили голодом, убивали.
В комнату торопливо вошел Скрясин, и все взоры обратились к незнакомцу с проседью в черных волосах, с блестящими, словно осколки антрацита, глазами, который следовал за ним без улыбки, с лицом неподвижным, как у слепого от рождения. Его черные точно уголь брови сходились над переносицей острым гребнем; он был высокого роста и одет безукоризненно.
— Мой друг Жорж, — сказал Скрясин. — Временно мы будем придерживаться этого имени. — Он огляделся вокруг: — Место абсолютно надежное? Никакой возможности подслушать наш разговор? Кто живет наверху?
— Совершенно безобидный учитель музыки, — ответил Дюбрей. — А внизу люди уехали в отпуск.
Впервые Анри и не думал улыбаться при виде многозначительных повадок Скрясина; высокий темный силуэт рядом с ним придавал сцене внушающую тревогу торжественность. Когда все сели, Скрясин сказал:
— Жорж может говорить по-русски или по-немецки. У него с собой документы, которые он вкратце изложит и прокомментирует для вас. Из всех вопросов, на которые он готов пролить ужасающий свет, самый непосредственный интерес представляет вопрос о трудовых лагерях. С этого и надо начать.
— Пусть говорит по-немецки, я переведу, — с живостью предложил Ламбер.
— Как вам будет угодно.
Скрясин сказал несколько слов по-русски, и Жорж кивнул головой, причем ни одна черта на его лице не дрогнула; казалось, оно было сковано мучительной, неизгладимой горечью. Внезапно он заговорил; взгляд его оставался неподвижным, устремленным куда-то внутрь, к нездешним видениям; но с его омертвелых губ срывались выразительные, страстные слова, то сухие, то патетические. Ламбер не спускал глаз с его уст, словно расшифровывал язык глухонемого.
— Он говорит, что мы должны прежде всего хорошенько понять: существование трудовых лагерей — не случайное явление, на отмену которого когда-нибудь можно было бы надеяться, — переводил Ламбер. — Программа капиталовложений Советского государства требует дополнительных средств, которые могут быть получены только за счет изнурительного труда. Если потребление свободных рабочих опустится ниже определенного уровня, то настолько же снизится и производительность труда. Вот почему приступили к систематическому созданию контингента неквалифицированной рабочей силы, получающей в обмен на максимальный труд ничтожный прожиточный минимум: подобное соотношение затрат возможно лишь при концентрационной системе.
В кабинете воцарилась могильная тишина; никто не шелохнулся; Жорж заговорил снова, и Ламбер снова стал облекать в слова трагический голос:
— Исправительные работы существовали с самого начала установления режима; но в тысяча девятьсот тридцать четвертом году НКВД наделили правами в административном порядке отдавать распоряжение о заключении в трудовой лагерь на срок, не превышающий пяти лет; для более длительного наказания необходимо предварительное судебное постановление. Между сороковым и сорок пятым годами лагеря частично опустели; многие узники были зачислены в армию, другие умерли от голода. Но за последний год они пополнились снова.
Теперь Жорж указывал на разложенных перед ним бумагах названия, цифры, и Ламбер постепенно переводил. Караганда, Чарджоу, Узбекистан. Это не были просто слова: то были куски ледяной степи, болота, прогнившие бараки, где мужчины и женщины работали по четырнадцать часов в день за шестьсот граммов хлеба; они умирали от холода, от цинги, от дизентерии, от истощения. Как только они становились слишком слабыми, чтобы работать, их помещали в больницы, где систематически насмерть морили голодом. «Да правда ли все это?» — с возмущением спрашивал себя Анри. Жорж казался подозрительным, Россия так далеко, а рассказывают столько всего! Он посмотрел на Дюбрея, замкнутое лицо которого не выражало ничего. Дюбрей выбрал позицию сомнения: сомнение — это первая защита, но и ему не следует доверяться. Среди многих вещей, о которых рассказывают, попадаются и правдивые. В тридцать восьмом Анри сомневался, что война начнется завтра; в сороковом он сомневался в газовых камерах... Жорж наверняка преувеличивал, но выдумал он, конечно, не все. Анри открыл на коленях досье: то, что он рассеянно читал несколько часов назад, обрело вдруг страшный смысл. Тут были переведенные на английский официальные тексты, допускавшие существование лагерей. И если быть честным, то нельзя полностью отвергать все эти свидетельства, одни доставленные американскими наблюдателями, другие — насильно угнанными, оказавшимися на каторге у нацистов. Невозможно отрицать это: в СССР тоже одни люди до смерти эксплуатировали других людей!