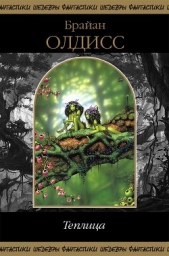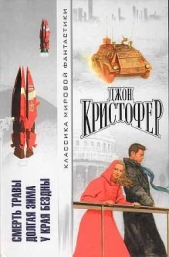Голуби в траве. Теплица. Смерть в Риме

Голуби в траве. Теплица. Смерть в Риме читать книгу онлайн
Социально-критические романы Вольфганга Кёппена (р. 1906) хорошо известны советскому читателю.В романе «Голуби в траве» описан один день большого западногерманского города в период начала так называемого «экономического чуда». Писатель показывает зыбкость и непрочность благополучия, создаваемого в атмосфере холодной войны.Роман «Теплица» передает обстановку закулисной парламентской борьбы.В романе «Смерть в Риме» талант писателя раскрывается с особой силой.В. Кёппен пишет о зловещих симптомах неонацизма в ФРГ. Образ матерого эсэсовца Юдеяна - сатирическое обобщение, не имеющее себе равных в современной немецкой литературе
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Знаю, это смешная фамилия. Но опять-таки не смешнее многих других. Почему же я так презираю ее? Я ее не выбирал. Я охотно и без зазрения совести вмешиваюсь в чужие разговоры; но мне стыдно, я притворяюсь непочтительным, а как бы мне хотелось что-нибудь уважать! Я композитор. Однако, если не пишешь для самой широкой публики, эта профессия так же нелепа, как и моя фамилия. И вот имя Зигфрида Пфафрата появляется в концертных программах.
Почему я не возьму себе псевдоним? Право, не знаю. Неужели я привязан к этой ненавистной фамилии, продолжаю быть к ней привязан? Или это власть семейного клана? Тем не менее мне кажется, что все происходящее на свете, все, о чем люди думают, грезят и что нас губит, все это в целом, даже неуловимое, касается меня, обращено и ко мне!
* Картина известного японского художника Хокусаи (1760 - 1849). * Добрый вечер, господин Ага-Хан! (франц.) Ага-Хан - глава влиятельной мусульманской секты исмаилитов в Индии.
Большой черный автомобиль с зеркальными непрозрачными стеклами, похожий на темный сверкающий гроб, поблескивая лаковым мраком, бесшумно подъехал к Пантеону. Машина напоминала посольскую, и, может быть, в ней на пухлых подушках сидел посол Плутона, министр Преисподней или Марса, а Зигфрид, который попивал себе граппу на площади Ротонды, бросив взгляд на ту сторону площади и заметив это событие, впрочем не стоящее внимания, признал буквы на щитке, где обычно стоит номер машины, за арабские. Что это? Не принц ли из «Тысячи и одной ночи» прибыл сюда или это какой-нибудь король-изгнанник? Выскочил темнолицый шофер в почти военной форме, рванул дверцу машины и с усердием адъютанта, готовый к услугам, встал вплотную к вылезавшему господину, облаченному в просторный костюм. Костюм был из английской фланели и, видимо, сшит у хорошего портного, но на располневшем теле господина - мощный затылок, широченные плечи, грудь колесом, круглый, эластичный, тугой, словно боксерская груша, живот, толстые ляжки - костюм этот почему-то напоминал грубошерстную одежду крестьян-горцев. У господина были торчавшие щетиной, коротко подстриженные седые волосы, глаза прятались за синими стеклами больших очков, придававших ему отнюдь не крестьянский вид. Напротив, в нем было что-то загадочное и коварное, чужестранное и изысканное, чем-то напоминал он прибывшего из далеких земель члена дипломатического корпуса или спасающегося от преследования отчаянного беглеца.
Не Одиссей ли это, пожелавший навестить богов? Нет, не Одиссей, не заблудившийся царь Итаки, этот человек - палач. Он явился из царства мертвых, от него веяло трупным запахом, и сам он был смертью, грубой, подлой, неповоротливой, бездарной смертью. Тринадцать лет не встречал Зигфрид своего дядю Юдеяна, которого так боялся в детстве. Сколько раз его наказывали за то, что он прятался от Юдеяна, и в конце концов мальчуган стал видеть в образе дяди воплощение всего, чего он страшился и что ненавидел, символ всего насильственного - мобилизации, армии, войны; ему и сейчас иногда казалось, что он слышит рычащий, всегда разъяренный голос этого человека с бычьей шеей. Но Зигфрид лишь смутно помнил теперь лицо могущественного трибуна, перед которым трепетала некогда вся страна и чьи бесчисленные портреты мозолили глаза повсюду: в газетах, на колонках с афишами, на стенах школьных залов, на экранах кино, где Юдеян появлялся, подобно грозной тени, причем всегда со злобно опущенной мощной головой, в неизменной, навязчиво скромной партийной форме и тупоносых походных сапогах. Поэтому Зигфрид, который успел тем временем вырваться на свободу и сидел теперь перед баром, попивая граппу по Хемингуэю, и размышлял о лежавшей перед ним римской площади и о своей музыке - самом сокровенном в его внутренней жизни, - поэтому Зигфрид и не узнал Готлиба Юдеяна, ибо даже не подозревал о том, что чудовище вознамерилось восстать из мертвых и появилось в Риме. Лишь мимоходом и с невольным содроганием Зигфрид заметил дородного, видимо богатого и влиятельного, но несимпатичного иностранца, который поманил к себе кота Бенито, потом вдруг схватил животное за шиворот и под ребячий визг отнес в свой аристократический лимузин. Шофер на миг застыл в солдатской оловянности, затем почтительно прикрыл дверцу за Юдеяном и котом. Большой черный автомобиль бесшумно скользнул прочь, перед Зигфридом бегло блеснули в лучах предвечернего солнца арабские буквы, а затем солнце скрылось за облаком, и машина, словно растворившись в клубах вонючего дыма, исчезла.
Ильза была приглашена своим мужем Кюренбергом на репетицию; Зигфрид не заметил ее, так как свет зажгли только над оркестром, а она села в последнем ряду возле зеленого деревца в кадке и слушала симфонию оттуда.
Симфония ей не понравилась. Она слышала сплошные диссонансы, враждебные друг другу столкновения звуков, бесцельные поиски: это был какой-то неуверенный эксперимент, автор шел то одним путем, то другим и тут же сворачивал в сторону, ни одна мысль не была договорена, все с самого начала выглядело хрупким, полным сомнений, проникнутым отчаянием. Ильзе казалось, будто эти ноты написаны человеком, который сам не знает, чего хочет. И потому ли он в отчаянии, что не знает пути, или для него нет пути, так как он сам каждую тропу затемнял ночью своего сомнения и делал ее недоступной? Кюренберг много ей рассказывал о Зигфриде, но Ильза не была с ним знакома и до сих пор оставалась к нему равнодушной. Сейчас музыка Зигфрида растревожила ее, а она не желала тревожиться. В этой музыке звучало что-то, будившее печаль. Она на своем опыте познала, что лучше избегать и страдания и печали. Она не хотела больше страдать. Не хотела. Она достаточно настрадалась. Она подавала нищим несуразно большие суммы, но не спрашивала, почему они просят милостыню. Кюренберг, как дирижер, мог бы повсюду зарабатывать больше, чем здесь, - и в Нью-Йорке, и в Сиднее. Когда он решил подготовить симфонию Зигфрида для конкурса в Риме, Ильза не отговаривала его, но теперь жалела, что он взялся за нее, ведь он трудится над чем-то несвязным, безнадежным, над бесстыдным в своей наготе выражением откровенного, позорного отчаяния.
После репетиции Кюренберги пошли поесть. Они любили поесть, ели часто, обильно и вкусно. К счастью, это по ним не было заметно. Они хорошо переносили обильную, вкусную еду, оба были пропорционально сложены, как говорится, в соку, но не жирные, упитанные, но не толстые, хорошая пара, точно выхоленные животные. Так как Ильза молчала, Кюренберг понял, что симфония ей не понравилась. Когда человек молчит, с ним трудно спорить, и Кюренберг в конце концов начал хвалить Зигфрида, утверждая, что из новых он самый талантливый. Дирижер пригласил Зигфрида зайти вечером, но теперь не знал, приятно ли это будет Ильзе. Как бы мимоходом он сознался в этом, а Ильза спросила:
- В гостиницу?
- Да, - ответил Кюренберг. И Ильза поняла, что Кюренберг, который даже во время поездок - а переезжали они с места на место беспрерывно - оставался страстным кулинаром, хочет готовить сам. Это доказывало, что он действительно ценит Зигфрида и ухаживает за ним, и она снова промолчала. А почему бы ей и не принять Зигфрида? Она не любила отказывать. Да и с Кюренбергом ей не хотелось спорить. Это был брак без ссор, они ухитрились, не ссорясь, пройти через нужду и опасности, изъездить весь белый свет.
Ладно, пусть Зигфрид явится к ним в гостиницу, пусть ее муж для него приготовит ужин, она не возражает. Может быть, Кюренберг прав и Зигфрид - приятный человек, но его музыка от этого лучше не станет. Ильза считала, что она и не может стать другой; хотя эти звуки отталкивали ее, в них все же чувствовалось что-то подлинное, и при всей их несвязанности они воссоздавали картину определенной человеческой судьбы, а поэтому и не могли стать иными, и, каким бы милым Зигфрид ни оказался, всегда его музыка будет ей антипатична. Ильза внимательно посмотрела на Кюренберга: вот он идет рядом с ней в костюме из грубошерстного твида, в скрипучих башмаках на толстой подошве; волосы его уже поседели, и он успел облысеть, но глаза на добром решительном лице ясны, фигура несколько раздалась, но шагает он твердо, искусно лавируя среди беспокойной толпы, затопляющей римские улицы.