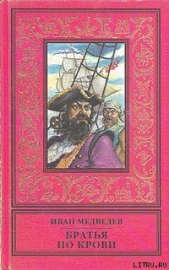Жермини Ласерте. Братья Земганно. Актриса Фостен

Жермини Ласерте. Братья Земганно. Актриса Фостен читать книгу онлайн
В истории французского реалистического романа второй половины XIX века братья Гонкуры стоят в одном ряду с такими прославленными писателями, как Флобер, Золя, Доде, Мопассан, хотя их литературный масштаб относительно скромнее. Лучшие их произведения сохраняют силу непосредственного художественного воздействия на читателя и по сей день. Роман «Жермини Ласерте», принесший его авторам славу, романы «Братья Земганно», «Актриса Фостен», написанные старшим братом — Эдмоном после смерти младшего — Жюля, покоряют и ныне правдивыми картинами, своей, по выражению самих Гонкуров, «поэзией реальности, тончайшей нюансировкой в описании человеческих переживаний».
Вступительная статья — В.Шор.
Примечания — Н.Рыков.
Перевод с французского — Э.Линецкая, Е.Гунст, Д.Лившиц.
Иллюстрации — Георгий, Александр и Валерий (Г.А.В.) Траугот.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Несколько мужчин из числа обычных статистов званых обедов продолжали спокойно сидеть за столом и разговаривали, спрыскивая беседу вином.
Крупье из Монако рассуждал с дирижером оркестра, мужем Брюхатой, о трудности разведения скворцов. Врач с Гомбургских вод, молчаливый, как дипломат, каждые десять минут наливал себе рюмку, попутно наливая и своему соседу — актеру. Помешанный на духах, тот пил, уткнувшись носом в воротник фрака, где были у него зашиты палочки ванили. Высокий, бесцветный молодой человек, чье положение в обществе определялось выгодными знакомствами, перечислял семейные добродетели жен своих знакомых какому-то композитору с растрепанным хохолком, напустившему на себя безумный вид. Венский антрепренер болтал с матерью некоей танцовщицы — единственной женщиной, еще оставшейся в столовой среди мужчин. Она получила прозвище Гербовая Марка за фразу, которая немедленно слетала с ее языка, как только какой-нибудь завсегдатай Оперы чересчур усердно прижимался к ее дочери в танцевальной зале.
— Прекратите, пожалуйста, господин маркиз!.. — неизменно говорила она. — У меня как раз есть при себе гербовая марка. [121]
Некий скандинав, который воображал, что написал пьесу на французском языке и у которого все было разборное — трость, бинокль, портсигар, — показывал неприличные картинки на внутренней крышке своих часов директору театра; у того было сейчас туго с деньгами, и он пытался узнать цену, которую готов был заплатить «неудобоиграемый» драматург за свою славу. А по другую сторону от иностранца сидел, прислушиваясь к их разговору, осветитель театра, главный кредитор директора, каждый вечер накладывавший с помощью судебного пристава арест на весь сбор и позволявший бедняге видеться со своими авторами только по воскресеньям.
И наконец, поставщик аранхуэсской спаржи, живой и остроумный, как все люди, много странствующие по свету, рассказывал своим сотрапезникам одну историю, которая произошла в его новом отечестве:
— Как-то утром, в Толедо, я пришел к хозяйке уплатить двенадцать пиастров — небольшую квартирную плату, которую я аккуратно вносил каждый месяц. Надо сказать, что старуха принадлежала к высшей испанской знати… Старинный разорившийся род… У нее было две дочери. Старшая — с черными как уголь бровями… командорша ордена святого Иакова… Этот орден уже не существует — он был уничтожен испанской революцией, — но она продолжала носить его облачение… Я так и вижу ее в этом капюшоне, в длинном белом платье, с большим красным крестом чуть не в ее рост… У другой дочери, помоложе, замужней, был сын лет пяти-шести… наследник имени… последний маркиз в их роде… самый избалованный мальчишка в мире, кумир всех трех женщин… Ну и капризы же были у этого человечка, ну и причуды — причуды тирана!.. Здесь, кажется, нет девиц? — спросил рассказчик, оглядев столовую. — Так вот, в тот день мальчишка забрал себе в голову посмотреть… посмотреть на то, что не показывает ни одна женщина и уж тем более — монахиня!.. Мать, вне себя от гнева, грозится высечь его. Тут малыш приходит в дикую ярость, весь трясется и кричит, словно его режут: «Qiero, qiero ver el culo de mi tia!» [122]При этом он злится, плачет, задыхается. Мать зажимает ему рот рукой… бесенок кусает руку и вдруг начинает в судорогах кататься по полу, не переставая сквозь стиснутые зубы выкрикивать свою проклятую фразу… Тут открывается дверь, и в комнату с суровым видом входит бабушка… она с секунду смотрит на внука, у которого на губах выступила пена, потом говорит: «Последний маркиз нашего рода умирает… допустите ли вы, чтобы он умер, дочь моя?» («El ultimo marques de la familia muere. Le dejara de morir, hija mia?») Командорша ордена святого Иакова, неподвижная, как статуя, все это время не отрывалась от своего молитвенника, словно то, что кричал мальчик, не доходило до ее слуха. Но, боже мой, какой взгляд метнула она на мать после этого вопроса!.. Командорша взяла ребенка за руку и вышла с ним из комнаты… А через минуту последний маркиз рода с растерянным видом прошмыгнул между нашими ногами и выбежал на лестницу с такой быстротой, словно ему довелось увидеть самого дьявола…
В кабинете Карсонака серьезные люди, драматурги, сосредоточенно курили и хранили глубокое молчание, словно боясь, что кто-нибудь может украсть их замыслы. Только по временам самый веселый из всей компании вставал, по очереди подходил к каждому, на манер старого полишинеля почесывал ему затылок, а потом, очень довольный, снова садился на свое место. В глубине, в самой глубине затененной комнаты, вполголоса беседовали двое мужчин; один из них был совершенно скрыт клубами дыма своей сигары, и только голос его, казалось исходивший от бесплотного духа, с мрачной убежденностью повторял:
— Это недурно, но надо бы сделать купюры.
Карсонак, незаметно взяв шляпу, собрался уходить, как вдруг его поймал между двумя портьерами директор театра:
— Ничего не поделаешь с этим скандинавом! Больше двадцати тысяч франков у него не вытянешь!
— Дурак! Бери его рукопись и его двадцать тысяч франков… это костюмы и декорации. А я напишу тебе пьесу из той же эпохи, и сразу же после его провала ты поставишь мою…
Карсонак уже взялся за ручку двери в прихожей, но его задержал поставщик аранхуэсской спаржи:
— Карсонак, я участвую в покупке слона, привезенного в Картахену.
— Ну, а при чем тут я?
— Быть может, в твоей будущей пьесе ты смог бы как-нибудь использовать его… моего хоботоносого?
— Не знаю, абсолютно ничего не знаю на этот счет, — ответил Карсонак, но в глазах его внезапно вспыхнул огонек, который тотчас же погас.
— Не хитри… тебе до смерти хочется получить моего слона… но ты ведь знаешь, что меня не так-то легко провести… и получишь ты его только в том случае, если я буду иметь долю в пьесе.
— Ну, ладно, ладно, согласен… и доставь его сюда большой скоростью.
Побыв немного с сестрой в туалетной комнате, Фостен вернулась в большую гостиную к «женщине-акробату» и к двум девушкам. Одна из них, с бархатным взглядом и тяжелыми веками турчанки, в белом платье, на котором выделялось красное коралловое ожерелье, излучала то простодушие и наивность, ту готовность любить всех и все, какую можно встретить только у очень молоденьких девочек, живущих взаперти и лишь изредка, случайно, выезжающих в свет. Она рассказала о своем первом школьном увлечении, о своем романе с ящерицей. У ящерицы был ласковый и дружеский, совсем человеческий взгляд. Девушка всегда носила ее на груди, и, когда она играла на фортепьяно, зверушка высовывала головку из ее корсажа, чтобы быть поближе к музыке. Одна ревнивая подруга раздавила ящерицу, и, влача за собой свои маленькие внутренности, та приползла к своей хозяйке, чтобы умереть у ее ног. Она вырыла ей могилку и поставила маленький крестик. Теперь она больше не хочет ходить к обедне. Молитва уже не доставляет ей удовольствия. Ее вере пришел конец: бог оказался слишком несправедливым.
Оправившись от нервного припадка, Щедрая Душа просунула в полуоткрытую дверь туалетной комнаты совсем белое от рисовой пудры лицо, обозревая, кто из гостей еще остался. Затем она отважилась выйти и стала бродить по всему дому с какими-то странными, словно смеющимися, глазами, но с совершенно серьезным выражением рта. Она блуждала по комнатам, дразня мужчин своим тонким профилем, правильным носиком, изящно вырезанным ртом и задорными завитками на лбу, придававшими какую-то шаловливую и своеобразную прелесть ее бледному лицу.
Капризное, сумасбродное создание, натура изменчивая, пылкая, загадочная, жрица любви, совсем недавно пережившая ту горькую минуту, когда однажды утром женщина замечает у себя первую морщинку, Щедрая Душа, еще в тумане оставшегося опьянения, которого она хотела, которое искала, чтобы утопить в нем какую-то неотвязную мысль, продолжала дразнить то одного, то другого своей обворожительной мордочкой и полной тайны улыбкой. Бросая кому-нибудь ироническое замечание, она смягчала его интонацией, в которой слышались слезы. Даря ласковое слово другому, вдруг отпускала циничную шутку, превращая свою ласку в насмешку, но при этом голос ее порой начинал дрожать, словно у маленькой девочки под ударами розги. Змеино-гибкая, вызывающе красивая, эта сумасбродка, эта профессиональная «воспламенительница» мужчин, вдруг прижималась на миг к кому-либо из гостей, давая ему услышать биенье своего сердца, потом внезапно отрывалась и, упав в глубокое кресло, протягивала для поцелуев ножку, просвечивавшую розовым сквозь белый шелковый ажурный чулок.