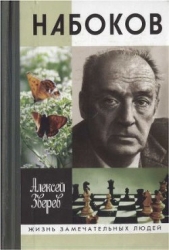Ада, или Эротиада
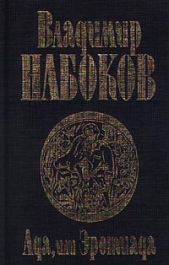
Ада, или Эротиада читать книгу онлайн
Роман «Ада, или Эротиада» открывает перед российским читателем новую страницу творчества великого писателя XX века Владимира Набокова, чьи произведения неизменно становились всемирными сенсациями и всемирными шедеврами. Эта книга никого не оставит равнодушным. Она способна вызвать негодование. Ужас. Восторг. Преклонение. Однако очевидно одно — не вызвать у читателя сильного эмоционального отклика и духовного потрясения «Ада, или Эротиада» не может.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Глупенькая Люсетт совершила промашку.
— Да нет, этого не может быть! — мрачно прервал ее Ван, бросив насупленно, сжав в кулаки руки, раскачиваться из стороны в сторону (ах, как нетерпелось кое-кому приложить к воспаленному прыщу на его правом виске обмакнутый в кипяток Wattebausch [370], так бедняга Рак называл ее спотыкающееся арпеджирование). — Такого просто быть не может! Немыслимо, черт побери, такое у близнецов! Даже у тех, что видела Брижитт, та, представляю, смазливенькая девчонка с торчащими сосочками, на которых поигрывали отблески свечки. Обычно разница между появлением близнецов, — продолжал он тоном безумца, настолько управляющим собой, что кажется сверхумником, — редко случается меньше четверти часа, это то время, которое требуется натруженной матке, чтобы передохнуть и в покое полистать женский журнал, прежде чем возобновить свои малоаппетитные потуги. В весьма редких случаях, когда матка автоматически продолжает усердствовать, врач может этим воспользоваться и выпустить на свободу второго шельмеца, который, можно сказать, окажется минуты на три моложе, что для династии по степени удачи — удвоенной удачи, когда ликует весь Египет — становится, пожалуй, позначительней, чем победный финиш в марафоне. Однако живые существа, сколько б их ни было, никогда не появляются на света la queue-leu-leu [371]. «Единовременные близнецы» это нонсенс!
— Ну уж не знаю (well, I don't know)! — проговорила Люсетт (слегка повторяя в этой фразе меланхоличную интонацию матери, как бы тем самым передавая смесь испуга и неведения, но вместе с тем — судя по едва заметному движению подбородком, выражавшему скорее снисходительность, чем согласие, — несколько принижая и приглушая суть отпора несогласного с ней собеседника).
— Я только хотела сказать, — продолжала она, — что он был красивый мальчик испано-ирландского происхождения, темноволосый и бледный, так что со стороны их принимали за близнецов. Я не сказала, что они и в действительности двойняшки. Или «тройняшки».
Тройняшки? Дройняшки? Кто так произносил? Кто? Кто? Или дройняшки каплями ронялись во сне, в каком? Живы ли сиротки? Но вернемся к Люсетт.
— Примерно через год она узнала, что он содержанец одного старого педераста, и бросила его, и тот у моря во время прибоя пустил себе пулю в лоб, но серфингисты и хирургисты вытащили его, хотя мозг так и остался поврежден; говорить он больше не сможет никогда.
— Бессловесного всегда полезно иметь про запас, — угрюмо заметил Ван. — Мог бы выступить в роли безъязыкого евнуха в фильме «Стамбул, мой бюль-бюль!» или в роли конюха, переодетого дворовой девкой, переносчицей записочек.
— Что, Ван, я утомила тебя?
— О, ничего подобного, захватывающая и трепетная историйка болезни!
А что, и в самом деле неплохо: погубить троих за три года, при этом подстрелив четвертого. Отличный выстрел… Адиана! Интересно, кого заарканит теперь.
— Ты уж не кори меня за эти подробности блаженства наших жарких до жути ночей — до этого бедняги и в промежутках между ним и очередным вторженцем. Если б мои губы были холст, а ее губы кисть, ни пятнышка на мне не осталось бы без краски, и наоборот. Это ужасно, Ван? Ты презираешь нас?
— Напротив! — отвечал Ван, удерживая ускользающий приступ напускного гаденького веселья. — Не был бы я гетеросексуальным самцом, непременно бы стал лесбиянкой!
Его банальная реакция на ее заготовленную мелодраму, на коварство от отчаяния, заставило Люсетт сдаться, замолкнуть перед черной ямой, где невидимая и вечная публика издает то тут, то там убийственные покашливания. Ван в сотый раз бросил взгляд на синий конверт: его ближайший, длинный край — чуть наискось к обрыву глянцевой поверхности красного дерева, левый верхний угол полуприкрыт подносом с коньяком и содовой, правый нижний направлен к любимому Ванову роману «Знак пощечины», валявшемуся на буфете.
— Давай повидаемся в ближайшее время, — сказал Ван, в раздумье покусывая большой палец, проклиная образовавшуюся паузу, страстно желая узнать, что в конверте. — Ты должна приехать и погостить у меня на квартире, которая на Алекс-авеню. Я только что обставил комнату для гостей bergère, torchère [372] и креслами-качалками; похоже на будуар твоей матушки.
Люсетт а l'Américaine [373] слегка присела, едва улыбнувшись поникшими уголками рта.
— Заедешь на пару дней? Обещаю вести себя пристойно. Идет?
— Возможно, мое представление о пристойности с твоим не совпадает. А как же Кордула де Прэ? Не станет она возражать?
— Квартира принадлежит мне, — сказал Ван, — и кроме того, Кордула теперь миссис Иван Дж. Тобак. Сейчас они прожигают жизнь во Флоренции. Вот последняя открытка от нее. Портрет Владимира-Христиана Датского, который, по утверждению Кордулы, вылитая копия ее Ивана Джовановича. Взгляни!
— Подумаешь, Сустерманс! — бросила Люсетт с оттенком нарочитости, свойственной рыцарю своей единоутробной сестрицы, или в духе rovesciata [374] римского футболиста.
Нет, это вяз! Полтысячелетия тому назад.
— Его предок, — частил Ван, — был знаменитым, или fameux, русским адмиралом, имевшим дуэль épée [375] c Жаном Нико, и в честь предка названы то ли острова Тобаго, то ли Тобакоффские острова, не помню точно, это было давно, полтысячелетия тому назад.
— Я помянула Кордулу только потому, что бывшие любовницы скоры на гнев при ложных подозрениях, так кошка с ходу наскакивает на высоченный забор и, недопрыгнув, припускает без оглядки, не делая повторной попытки.
— Кто тебе рассказал об этой блудливой кордулетности… то есть мимолетности?
— Твой отец, mon cher, на Западе мы часто с ним виделись. Сначала Ада предположила, что Тэппер — вымышленное имя… что ты дрался на дуэли с другим человеком… но это было до того, как мы узнали, что тот скончался в Калугано. Демон сказал, что тебе следовало бы попросту надавать ему палкой.
— Я не мог, — сказал Ван. — Крыса коротала последние часы на больничной койке.
— Нет, я про настоящего Тэппера, — воскликнула Люсетт (ее визит превратил все в сплошную путаницу), — а не моего бедного, преданного, отравленного, невинного учителя музыки, которого даже Ада, если она не привирает, не сумела излечить от импотенции!
— Дройнями! — сказал Ван.
— Не обязательно именно его, — заметила Люсетт. — Любовник его жены играл на строенной виоле. Послушай, я возьму почитать книжку (скользя взглядом по ближайшей книжной полке («Цыганочка», «Клише в Клиши», «Вечно Мертвого», «Гадкий новоанглиец»), свернусь, комонди [376], калачиком на несколько минут в соседней комнате, пока ты… Ах, обожаю «След пощечины»!
— Можешь не спешить, — сказал Ван.
Пауза (примерно пятнадцать минут до окончания действия).
— В десять лет, — произнесла, чтоб хоть что-нибудь сказать, Люсетт, — и я пребывала в поре Стопчинской «Старой розы» (в обращении ее к нему в тот день, в тот год, употребляем неожиданное, величественное, властное, шутливое, формально безотносительное, запретное, притяжательное местоимение множественного числа), в то время как наша сестра читала в этом возрасте на трех языках и гораздо больше, чем я, прочла в свои двенадцать. И все же! Тяжело переболев в Калифорнии, я наверстала упущенное: Пионерия побеждает Пиорею [377]! Я не из личного хвастовства, но читал ли ты горячо любимого мной Герода {116}?