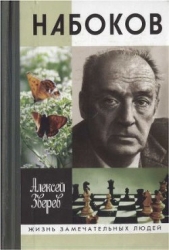Ада, или Эротиада
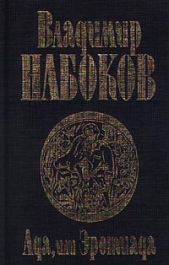
Ада, или Эротиада читать книгу онлайн
Роман «Ада, или Эротиада» открывает перед российским читателем новую страницу творчества великого писателя XX века Владимира Набокова, чьи произведения неизменно становились всемирными сенсациями и всемирными шедеврами. Эта книга никого не оставит равнодушным. Она способна вызвать негодование. Ужас. Восторг. Преклонение. Однако очевидно одно — не вызвать у читателя сильного эмоционального отклика и духовного потрясения «Ада, или Эротиада» не может.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
5
Осенний семестр 1892 года Ван провел в Кингстонском университете в Мейне, который располагал первоклассной клиникой для душевнобольных, а также знаменитым терапевтическим отделением и где Ван теперь снова вернулся к одному из старых своих проектов, породивших труд «Представление о полнолунии и полоумии» («Да ты „sturb“» [348], Ван, с каламбуром на устах! — смеялся старик Раттнер, местный гений-пессимист, считавший жизнь не более чем «вмешательством» в раттнертерологическое бытие — производное не от «terra», a от «nertoros» [349]).
Ван Вин [к тому же, в меру скромных своих возможностей, редактор «Ады»], обожавший в конце раздела, или главы, или даже абзаца менять местожительство, уже почти закончил сложный фрагмент, посвященный разрыву между временем и содержанием времени (воздействие на материю, на пространство, а также природа пространства как такового), и как раз обдумывал свой переезд в Манхэттен (подобное переключение являлось отражением скорее умственного склада, чем следствием смехотворного «воздействия среды», пропагандируемого Марксом-отцом, популярным автором «исторических» пьес), как вдруг неожиданный дорофонный звонок вмиг всколыхнул привычный ток в обоих кругах его кровообращения.
Никто, даже отец, не знал, что Ван только что откупил у Кордулы ее фешенебельный пентхаус на крыше небоскреба между Манхэттенской Библиотекой и Парком. Помимо того, что эта квартира с повисшей в небесном пространстве, созданной для уединенного мыслителя террасой, с присутствием шумного, но уютного большого города, плещущегося внизу, разбиваясь у подножия о неприступный утес его сознания, оказалась идеальным местом для работы, она явилась, по-модному выражаясь, «холостяцким убежищем», где можно было тайно забавляться хоть с одной, хоть с компанией девиц (одна из них прозвала квартиру «your wing à terre» [350]). Но пока Ван жил в кингстонской грязноватой, как в Чузе, квартирке, где в тот солнечный ноябрьский день и согласился принять Люсетт.
Он не видал ее с 1888 года. Осенью 1891-го она прислала ему из Калифорнии сбивчивое, непристойное, безумное, на грани буйства признание в любви о десяти страницах, которое в мемуарах обсуждаться не будет. [Взглянем, однако, чуть ниже. — Ред.] Ныне Люсетт изучала историю искусств («последнее прибежище посредственности», по ее выражению) в расположенном близ Кингстона Куинстонском колледже для Прелестных и Глуповатых (dumb) Девиц. Когда, позвонив, она (новым, грудным, мучительно напоминающим Адин, голосом) молила о встрече, то намекнула, что у нее важное для него письмо.
Подозревая, что это, возможно, очередное подношение невостребованной страсти, Ван вместе с тем ощутил, что ее посещение, возможно, всколыхнет в нем адские желания.
В ожидании Люсетт меряя шагами по коричневому ковру из конца в конец свои апартаменты, то задерживая взгляд на полыхающих, вопреки времени года, деревьям в северо-восточном окне в конце коридора, то возвращаясь в гостиную, откуда высвечивался контражуром Гринклот Корт, Ван гнал от себя воспоминания об Ардисе с порханием его орхидей, собираясь с силами перед тяжелой встречей, спрашивая себя, не отменить ли ее и не послать ли человека с извинениями по случаю своего внезапного и неизбежного отъезда, но при всем этом понимая, что ничего он не отменит. Сама Люсетт имела ко всему лишь косвенное касательство: тот солнечный свет обронил на нее лучистые крапинки мимоходом, но вовсе отторгнуть Люсетт от Ардиса со всеми его солнечными бликами было невозможно. Вану вспоминались попутно и нежный грузик у него на коленях, и ее маленькая круглая попка, и смарагдовые глазки, когда она к нему оборачивалась, и уплывающая дорога. Походя подумалось: какая она стала, толстуха с веснушками, а может, вписалась в хоровод грациозных нимф Земских? Он слегка приоткрыл на площадку входную дверь, но все-таки упустил перестук ее высоких каблучков (а может, не расслышал из-за ударов сердца), вот уже в двадцатый раз возвращаясь «к прежним садам и усладам. Эрос qui prend son essor [351]! Мрамор храма искусств охрана: Эрос, роза и резь». Такие строфы даются туго, но рифмовать все же легче, «чем немой прозой опровергать прошлое». Кто это сказал? Вольтиманд или Вольтэманд? А может, этот Бернский Свин? Чтоб те сгнить в лесу густом со своим анапестом! «Мы любили лишь жен или тех, кто уж ныне в могиле». Мы страдаем по шлюхам и девам невинным доныне.
Перед ним стоял в ожидании гималайский мишка с рыжевато-каштановыми (солнце уже добралось до первого окна в прихожей) локонами. О да, ген «З» одержал победу. Стройная, незнакомая. Зеленые глаза сделались шире. В свои шестнадцать она смотрелась куда беспутней, чем ее сестра в том же роковом возрасте. Люсетт была в темных мехах и без шляпки.
— My joy (моя радость)! — таковы были слова Люсетт — или тому подобные; Ван ожидал более официального приветствия: в конце концов не так уж хорошо он ее знал — в памяти брезжил некий зародыш.
Влага в глазах, коралловые ноздри подвижны, алые губы опасно обнажают язычок и зубы, готовясь скосить полуоткрытый рот (такой же косой гримаской предваряют киски игривый укус), — она подошла ближе в оцепенении зарождающегося экстаза, наплывающей нежности — предвозвестницы, кто знает (она знает), новой жизни для них обоих.
— В костлявую щечку! — предуведомил Ван юную особу.
— Любишь ты скелетики (little sceletons), — пробормотала она, едва Ван слегка приложился губами (внезапно сделавшимися непривычно сухими) к твердой pommette [352]. И невольно уловил аромат ее «Degrasse», резковатых, хотя весьма «эротичных» духов, а с ним и пожар ее Крошки Рыжульки, как они именовали это с той, другой, готовясь заточить Люсетт в ванну, полную воды. Да, очень возбуждена и душиста. Золотая осень неподобающе томна для мехов. The cross (крест) образцово выхоленной redhead (гнедой). О четырех рдеющих концах. Ведь немыслимо было гладить (что он и делал) медную гриву, одновременно не воображая себе и пушистого лисеночка внизу и два пламенеющих пушка справа и слева.
— Так вот где он живет, — протянула Люсетт, осматриваясь и поворачиваясь, пока он в изумлении и печали помогал ей освободиться от мягкого, долгого, темного манто, попутно прикидывая (как ценитель мехов): sea bear (котик)? Нет, desman (выхухоль). Ассистируя ей, Ван восхищался ее элегантным изяществом, ее серым безукоризненным костюмом, ее, как дымка, кружевной косынкой и, едва та была сброшена, грациозной белой шейкой. Скинь свой жакет, сказал он или решил, что сказал (стоя в осенний семестр 1892 года, около четырех пополудни, с протянутыми руками в своем угольно-черном от внезапного возгорания костюме посреди мрачной прихожей своего мрачного дома, прозванного англофилами «Вольтэманд-Холл при Кингстонском университете»).
— Сниму-ка я, пожалуй, жакет! — сказала она с сугубо женской мимолетно насупленной суетливостью, сообразной смыслу «пожалуй». — У тебя центральное отопление, а у нас с девушками крохотные камины.
Она сбросила жакет, оставшись в белой оборчатой блузке без рукавов. Вскинула руки, чтоб пальцами взбить искрящиеся кудри, и он увидел ожидаемые искрящиеся впадинки.
Ван заметил:
— Все три окна pourtant [353] открыты и можно распахнуть их пошире; но открываются они все на западную сторону, а тот зеленый двор под нами внизу расстилается под вечерним солнцем молельным ковром, отчего в этой комнате становится еще теплей. Ужасно, что окно не умеет повертываться своей застывшей амбразурой, чтоб полюбопытствовать, что там, по другую сторону дома.