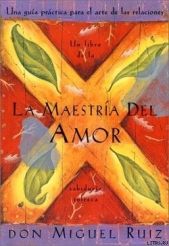AMOR
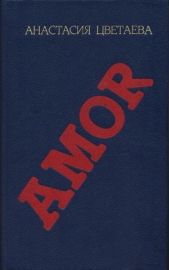
AMOR читать книгу онлайн
Роман "Amor" — о судьбах людей, проведших многие годы в лагерях и ссылке, о том, что и в бесчеловечных условиях люди сохраняли чувство собственного достоинства, доброту.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Совсем нежданно раздался голос помпрораба:
— Молодцы!
Мориц лишь улыбнулся.
— Я сделал по стране пятьдесят пять тысяч километров. Вот когда я увидел страну! Я ехал не с такой скоростью, как Ильф и Петров, и вот в этих маленьких городишках, в этих литл–таунах, я увидел настоящий народ. Побывал я и на юге Соединенных Штатов, в штате Кентукки, где для негров имеются особые, свои, залы, где неграм — особые поезда.
А как вы ехали назад? — спросил Евгений Евгеньевич, вставая, спуская с колен кота. — На каком пароходе?
— На "Олимпике". Это близнец погибшего "Титаника".
Гораздо хуже оборудован, и кормят там отвратно. Мы забастовали, отказались от еды. Переполох поднялся необычайный. Пришел главный стюард, совершенно бледный. Он нам сказал, что мы можем заказать все, что угодно, нам будет подано. Мой товарищ так, для смеха, заказал — в океане! — белые грибы в сметане, и нам их подали. С тех пор мы свободно заказывали, что хотели, и нам подавали. В теплый день, когда вас обвевает соленый океанский ветер, развивается чудесный аппетит. А у нас, кстати, Ника, что‑нибудь вкусное будет к ужину?
— Да мы же ужинали! — восклицает Ника. Поднялся хохот.
— Как? Уже? — обиженно сказал Мориц. — А я думал — это обед…
— Есть, Мориц, есть! Пирожки принес Матвей. И печенье есть сладкое. Печенье, Мориц! Я вам сейчас даже его дам! За рассказ!
В минуту, когда Морицу вручалось печенье, живописно зажёгся свет. Евгений Евгеньевич стоял и решал, идти ли доканчивать шлюпочный люк в шхуне или лечь с "Тилем Уленшпигелем" (по–французски). Но у Морица был полон рот пирога.
— Сейчас, — промычал он обнадеживающе, заглатывая последний кусок. — Чудесное печенье, Ника, и есть всем! — (Мориц чудно смеется!) Сразу, живым голосом: — Да, я чуть не погиб незадолго до отъезда оттуда! Мы ехали в закрытом лимузине "бьюик", и вот недалеко от Цинциннати дорога идёт через горный перевал, причем дорога, надо сказать, чудовищная, такая скользкая… Шофер — я сам вожу машину, но предпочитаю иметь шофера — был замечательный парень: американский коммунист, еврей, весёлый, умница, чудеснейший, — правил он одной рукой, как все уважающие себя шоферы, а другую, с папиросой он небрежно высовывал в окно. Дешёвые машины он презирал. Едем мы. Вдруг нас нагоняет "фордишка" для двоих (и место для тещи, как там говорят). Дорога не особенно широкая, но разъехаться можно. С одной стороны — обрыв, гигантский. С другой — гора. Я говорю шоферу: "Вот что! Ты или пропусти вперёд "фордишку", или уходи от него". — "Я — дорогу — "форду"??" Г аз! Сорок миль, пятьдесят миль, шестьдесят миль! (А шестьдесят миль — это девяносто шесть километров!) Он нажимает акселератор до отказа. Семьдесят миль в час! А "фордишка" от нас ни на йоту. Висит у нас на колёсах! И вдруг, на резком повороте, на этой скорости у нас заносит колесо! Раз — два — три… Это длилось мгновенье. Я думаю: сзади — "форд". Остановиться на таком ходу он не сможет. Миг тишины. Гибель неизбежна!
— А шофер? (голос Виктора).
Все мужчины сейчас стоят: кто собирается идти, кто, может быть, невольно поднятый моментом рассказа. (Отметить — себе, Ника: как они все стоят перед идеей опасности, взять в тетрадь. Патетизм этого. И что только женщина осталась сидеть.)
— Не затормозил, конечно…
— Если б он затормозил…
— Знаешь, чтоб у него получилось? — перебивал конторщик.
— Хана! — удовлетворенно пробасил прораб.
— Хороший шофер! — кричал Виктор…
— Хороший шофер никогда…
(Отметить, как кричат!)
— Он мотором затормозил, — говорил Мориц, — но как остановил владелец "форда" машину на таком ходу — я до сих пор не знаю! К счастью, наша сползла в маленькую канавку в безопасную сторону вправо. Если бы влево…
— Хана! — басом, прораб. — Я такой случай знаю. И человек — насмерть!
"А Мориц — жив!" — торжествующе думает Ника и забывает отметить, как она счастлива, что он жив.
— Мы все были бледные. Задний выскочил из машины — и к нашему. Мой шофер — он сознавал свою вину — сквозь зубы: "О’кэй!" — "Anything need?" — "Nothing" [6].
"Фордишка" промчался вперёд, а мы стали вылезать из канавки. К величайшему удовольствию моего шофера — мы все‑таки, хотя и перед самым домом, обогнали "форд".
Неслышно играет на коте, как на беззвучной гитаре, Ника. Мориц стоит и чуть–чуть, отсутствующе улыбается. Он все ещё там, на дороге из Кентукки в Чикаго…
Так Мориц начинает и заканчивает свой рассказ азартом, от которого чуть сжимается холодком сердце — мужское. А к женскому горлу — клубок.
Так проходит под знаком рассказа майский день в лагере. Река, кипя ледяной водой, грохочет, камни о камни — аплодируя этим дням. А по равнине рукоплещут григовские гномы, и по невидимым горам эхо — от Пещеры Горного Короля.
Какая случилась радость! Совсем как не в лагере! Человеческая! В одном этапе прибыл — и сразу его увидала Ника — глубокий старик, московский профессор–египтолог. Попавший в лагерь много раньше Ники, он уже почти заканчивал свой десятилетний срок. Разговорились — было утро, — и вот что услыхала Ника, хорошо в Москве знавшая его родную сестру по Музею Изобразительных искусств.
— Да, конечно, много тяжелого — позади, — сказал сереброволосый старик, но мне, по существу говоря, было даже много интересного — в лагере… Вполне незнакомая психология такого рода людей… И знаете ли, что не прекращает мое удивление — это то, что я многажды принимался — на разных колоннах развивать их интерес к искусству — но я продолжаю терпеть по этой части — полнейшее фиаско. Их не интересует искусство! У них какое‑то совсем особенное, свое понятие о том, что нужно человеку, — и поколебать их мне, несмотря на все мои старания, — совершенно не удалось! — Он остановился и — Нике: — А мы, собственно, куда сейчас с вами идём? А, за хлебом, да. К хлеборезу, понимаю, да. В очередь! — И, установив цель их движения, он продолжал свои размышления: — Да, так я хотел вам сказать: я пробовал, и в бараке, и в красном уголке, куда меня завёл "воспитатель", — да! Он тут называется "помпокавээр" [7] — да, такое название, — мы хотим с ним организовать лекцию об истории Египта, но взять мне его в помощники, к сожалению, не удалось, потому что он, к моему удивлению, нисколько не был готов к такого рода работе — по-видимому, даже не слыхал, что была такая страна со своей историей, — да и заинтересованности я у него не увидел никакой, и на лекцию мою зашли всего четыре–пять человек, двое вольнонаёмных, и из зеков несколько опять‑таки интеллигентов, а не из этой такой своеобразной массы так называемых "урок"…
И они с Никой стали в очередь к хлеборезу.
Но тут же выяснилось, что профессор оказался не на Никиной колонне, что ему хлеба нет, что это для его этапа — лишь пересыльный пункт, ему хлеб — по другому списку, в тот же вечер Нике пришлось расстаться с учтивым, благовоспитанным — после семи лет лагеря нисколько не изменившимся, старым ученым. Как сон, мелькнул его горбоносый, высоколобый, из царского романа, профиль. Но Ника была счастлива, что ей удалось сунуть ему полплитки шоколада, полученной в посылке, — и украшенный им лагерный день погас.
Изысканность старика, не дрогнувшего ни от чего за годы лагерных испытаний, тронули Нику теплом, счастьем — как в детстве от получения подарка! А не погружаюсь ли я сама в тину равнодушия, сказала она себе, отмечая свою взволнованность, — ведь, кроме Морица, кроме Евгения Евгеньевича, настоящего культурного человека здесь и нет.
С женщинами в бараках?.. И ей почему‑то вспомнился самый первый день в лагере, приезд. Как в метель лютую их выгрузили во 2–м Хабаровске, потому что кончились рыба и хлеб, выданные на путь, как их построили перед уходившим поездом, конвой с обеих сторон: "Шаг вправо, шаг влево — побег! Не обижайтесь!" И побежали солдаты, проваливаясь в глубокий снег, держа винтовки наперевес, и как, оглянувшись сквозь сетку, она увидела одноэтапницу, нежную полустарушку, взятую из психиатрической больницы, где её лечили от явлений климакса: сейчас её вели под руки две женщины, из её полуоткрытого рта слюна шла завесой, и все вместе проваливались в глубокий снег, в бездорожье. А после полутора–двух вёрст такого пути этап подошел к высокой арке над полем. Заборов ещё не было. Снег стихал, и при свете высокого фонаря, одного над зоной, крупно стояли по ободу арки слова монструозно нелепые: "Добро пожаловать!" "Кто такое выдумал?" — тогда пришло в голову Нике. Эта мысль вспомнилась ей теперь. И пришло на память тоже в воздух написанное стихотворение: