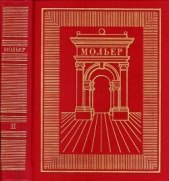Том 2 [Собрание сочинений в 3 томах]
![Том 2 [Собрание сочинений в 3 томах]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)
Том 2 [Собрание сочинений в 3 томах] читать книгу онлайн
Французский писатель Франсуа Мориак — одна из самых заметных фигур в литературе XX века. Лауреат Нобелевской премии, он создал свой особый, мориаковский, тип романа. Продолжая традицию, заложенную О. де Бальзаком, Э. Золя, Мориак исследует тончайшие нюансы человеческой психологии. В центре повествования большинства его произведений — отношения внутри семьи. Жизнь постоянно испытывает героев Мориака на прочность, и мало кто из них с честью выдерживает эти испытания.
Во второй том вошли романы «Тайна семьи Фронтенак», «Дорога в никуда» и «Фарисейка».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тут я должна сделать Вам одно признание, как это мне ни трудно, но ведь я обращаюсь к священнику, к человеку, привыкшему отпускать людям грехи. Я бессильна против моего деверя: во-первых, потому, что он по завещанию получил особые полномочия в отношении моего сына, но еще более потому, что я у него в руках, так как мой муж во время своей последней болезни передал Адемару компрометирующие меня бумаги, и довольно серьезно компрометирующие. Коль скоро я всегда действовала сообразно велениям моей совести и полностью пользуясь своими женскими правами, я не могу считать себя женщиной виновной, господин кюре. Неосмотрительная, неспособная к хитростям, расчетам — это верно, все это было. Я могла бы без труда обмануть мужа, а возможно, имела на то все права. Чего только не претерпела я совсем еще юной: тут и систематическая травля, какую способна изобрести лишь ревность, и заточение, словом, тайная пытка, поскольку этому способствовала наша уединенная жизнь в замке под Арманьяком, и мстительные выходки, благо они сходили с рук. Словом, хватит для настоящего романа, и не знаю, может, я и напишу его когда-нибудь, потому что я умею писать, и это-то меня и погубило. Таким образом, Адемар держит в руках мои злосчастные письма, которые вернул мне мой адресат и которые я, на свою беду, не уничтожила вовремя, и где я, побуждаемая демоном литературы, в живых выражениях описывала свои чувства; свет прощает женщине, уступившей чувствам, но никогда не простит открытого их выражения.
Теперь Вы знаете мой секрет, господин кюре. Хотя я не верю больше в таинства религии, я верю еще в достоинство ее служителей и их скромность. Вы должны знать следующее: Адемар только потому распоряжается судьбой Жана, что моя честь в его руках и, если я подниму голос, он меня загубит. Вот Вам еще один характерный штрих: он опасается, что держит меня в руках недостаточно крепко, и не прочь был бы на мне жениться, его прельщает мое состояние, довольно значительное; добавлю справедливости ради, что такова была последняя воля его умирающего брата; он все время твердит, что женщину можно укротить по-настоящему только в браке. Даже мысль, что де Мирбель, урожденная Ла Мирандьез, могла бы потребовать развода, не приходила в голову ни тому, ни другому. Адемар прибегает к шантажу, однако говорит об этом намеками: он дает мне понять, что, если я стану его женой, Жан будет воспитываться у нас в Ла-Девизе, что все вопросы по его воспитанию буду решать я, что часть года я смогу проводить у своих родителей. Госпожа Ла Мирандьез имеет, как Вы понимаете, большие связи, и я отнюдь не отказалась от мысли о блестящем реванше, который могут принести мне литературные успехи… Что делать? Окончательного отказа я деверю не даю, пытаюсь как-то выиграть время. Адемару уже за шестьдесят, и, когда он встает из-за стола, он неестественно багровеет; нарушения режима, которые неизбежны при его образе жизни и которых я великодушно стараюсь не замечать, могли бы подсказать другой женщине кое-какие мысли, но я абсолютно не способна к любым расчетам, и если я могла совершать безумства, то низости — никогда. Давая Вам все эти необходимые сведения, я смею надеяться, Вы не осудите меня, исходя из узких взглядов, которые, как я знаю, внушают Вам отвращение, а будете судить меня с позиций человечной и просвещенной религии и не откажете мне в милости, какую я могу получить только от Вас. Мне хотелось бы, чтобы Вы попросили для меня у Адемара разрешения навещать Жана в Балюзаке. Вам он не откажет, особенно если Вы напишете ему, что мой визит пойдет на пользу делу. Скажите ему, что я могу остановиться у Вас. Но я поселюсь в гостинице в Валландро, чтобы не причинять Вам лишнего беспокойства. Жду со всем нетерпением материнского сердца Вашего ответа и прошу Вас, господин кюре, верить в искреннюю и пылкую благодарность, которую я уже испытываю к благодетелю моего единственного и обожаемого сына».
Кюре взял со стола красный карандаш и подчеркнул фразу: «остановлюсь в гостинице в Валландро». Как раз сейчас я смотрю на эту красную черточку, чуть выцветшую с годами… Очевидно, он считал, что тут главный стержень письма и все прочее написано ради одной этой коротенькой фразы. Так, во всяком случае, подумалось мне вначале, но, по правде говоря, не мог же кюре обладать пророческим даром, и фраза, вероятно, подчеркнута после того, как дальнейшие события наполнили эти слова подлинным содержанием. Но в тот вечер он мог понять, что ни за какие блага мира Адемар де Мирбель не согласится предать гласности документы, направленные против невестки и могущие опозорить их славный род. Не особенно правдоподобно звучало также и утверждение, будто полковник на седьмом десятке, сам человек состоятельный, задумал вдруг жениться на графине.
Господин Калю вынул из ящика стола папку с надписью на обложке: «Лицемерки». Он вложил в нее письмо, запер ящик, потом прислушался к гулу наших голосов, доносившихся с первого этажа, к нашему хохоту, звону тарелок; опершись локтями на доску письменного стола, он просидел неподвижно несколько минут, закрыв лицо своими огромными ладонями.
IV
— Приторно, — сказал Жан, осушив стакан оршада. — Мне бы чего-нибудь покрепче.
И он начал шарить в буфете. Я отлично понимал, что он просто хорохорится, но в душе я был шокирован. А вдруг Мирбель и впрямь неисправимый мальчик! Он шумно двигал начатыми бутылками, открывал их, принюхивался, желая по запаху определить содержимое.
— Это, по-моему, черносмородинная наливка, или дягилевка, или ореховая, словом, питье для монашек… Однако кюре вроде бы не из тех, кто пробавляется сиропами… Ага, вот оно — это-то он, надо полагать, и хлещет! — вдруг крикнул Жан, потрясая начатой бутылкой коньяка. — И к тому же 1860 года! — Он прищелкнул языком. — Как раз в том году, когда мой дядюшка Адемар заработал при Кастельфидардо свой знаменитый шрам…
Мишель запротестовала: кто же пьет коньяк ни с того ни с сего средь бела дня? Его подают к десерту.
— К десерту сам кюре заявится.
— Надеюсь, Жан, ты все-таки воздержишься?
— Так тебе и воздержусь? И ликерными рюмками пить не стану!
Не так-то легко мне было догадаться, где начиналось комедиантство. Молчаливый школьник, которого вечно наказывали в коллеже, ничуть не походил на этого юного громилу. Я не сразу понял, что он разошелся вовсю из-за присутствия Мишель, — ведь он почти с ней не разговаривал, а на ее вопросы буркал что-то невнятное. Казалось, он просто ее не замечает.
— Это уж слишком, Жан, тебе будет нехорошо.
— Заметь, одним духом…
Он запрокинул голову, но, видимо, переборщил и закашлялся. Мишель хлопнула его по спине. По комнате пополз запах коньяка.
— Господин Калю заметит, — сказал я.
— А мы в бутылку водички подольем, он подумает, что коньячок выдохся…
— А запах! От тебя же разит коньяком, да и в доме пахнет…
Тут мы услышали над головой скрип отодвигаемого стула и стук грубых башмаков на лестнице. Встав на пороге, кюре втянул носом воздух и оглядел нас.
— Нашли-таки мой коньяк, бродяги, — весело проговорил он и обратился к Жану: — А ну, признайся, что он недурен, ты в этом деле должен знать толк. У вас в Ла-Девизе, уверен, коньяки первосортные, место больно подходящее… А ты, Луи, свел бы своего приятеля к Сирону. Любит он рыбу ловить? Любит? Ну, тогда покажи ему рыбное местечко. Щуки прямо бесчинствуют, но есть тихие заводи…
Он распахнул стеклянные двери столовой, которые выходили на задний двор, и с минуту смотрел нам вслед. Мы шагали по наполовину скошенному лугу. Лето выдалось грозовое, и сено не успевали сушить. Мы направились к ольшанику, вытянувшемуся вдоль берега. Бурые и голубые стрекозы извещали нас о близости невидимой отсюда протоки. Под ногами захлюпала вода — луг здесь был болотистый. Жара и после полудня стояла влажная, изнурительная. Очевидно, спиртное придало Жану смелости, так как он нарочно отстал от меня на довольно значительное расстояние, чтобы я не мог расслышать, о чем они говорят с Мишель, шедшей с ним рядом. Я показывал им дорогу, чувствуя, как меня охватывает глухая тоска, источник страданий, окрасивших и искалечивших всю мою жизнь. Но я не имею права умолчать об этой ране, полученной мною еще в ребячестве. Ничто так не распространено, как ревность в самой простейшей ее ипостаси. У меня она, эта мука, началась с тринадцати лет, на этом болотистом лугу, когда я напрягал слух, чтобы расслышать хоть обрывки слов, которыми обменивались моя сестра и мой друг, причем ревность этого рода свойственна далеко не всем и, хочу надеяться, не является уделом рода человеческого, ведь над ним и без того тяготеет немало проклятий.