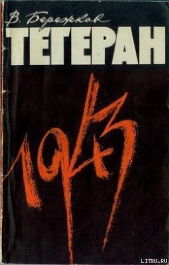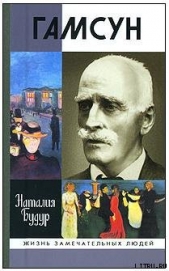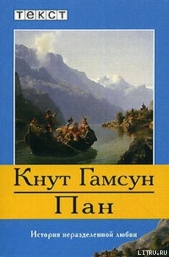"Люди, годы, жизнь", книга VI

"Люди, годы, жизнь", книга VI читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Помню, я как-то сидел с Савичем, который прочитал написанные главы, и мы, то усмехаясь, то угрюмо, обсуждали, что делать автору с советскими героями. Если учителя Сомова оклеветали, заклевали, то его сослуживица добьется правды у секретаря обкома. Если Осип столкнулся в Киеве с жестокой действительностью, то его должны тотчас душевно выручить фронтовые друзья. Если Валя наконец поняла, что у нее нет таланта и что в театре ставят скучные, бездушные пьесы, если она дошла до отчаяния, то неизвестный зритель вовремя сердечно поблагодарит ее. Если директор завода бюрократ и не хочет пустить в производство молотилку, сконструированную молодым инженером, то Москва одобрит новатора. Если случаются стихийные бедствии, то люди с ними быстро справляются, а если находит тоска, то ее прогоняет любящая жена или проницательный друг. Действие моего романа протекает в десяти странах, а советским людям отведено меньше четверти текста, и главы, посвященные им, подслащены. Один из героев «Бури», перешедший в «Девятый вал», Минаев, мечтает написать правдивый роман о войне; в книге приведены короткие записи к задуманной книге, например: «Очень голая у нас любовь,- сказала Вера,- если убьют - ничего, а если выживем - нужно будет что-нибудь придумать»; другие записи о работе, товариществе, жизни. Однако Минаев не смог бы написать в 1951 году задуманную им книгу. А я написал плохой роман.
Весной 1951 года я встретился со студентами Литинститута. Я рассказал им о своем понимании природы творчества. («Литературная газета» опубликовала несколько приглаженный текст.) Я припомнил, что Лев Толстой советовал начинающему автору Леониду Андрееву: если писатель задумал книгу, но может ее не написать, то он и не должен ее писать. Эти слова суровый приговор «Девятому валу»: я мог бы его не написать.
А. А. Фадеев в январе 1953 года прислал мне из больницы длинное письмо о «Девятом вале»; он кое-что критиковал, но говорил, что в целом роман «мощен, гуманистичен, в нем клокотание народных сил, людской потоп». В то же самое время Арагон поставил «Девятый вал» рядом с «Падением Парижа» и «Бурей». Я все же не поверил добрым отзывам - я уже твердо знал, что совершил одну из самых крупных ошибок писателя. Я взял сейчас книгу в руки, полистал, и мне захотелось промурлыкать песенку американского портного:
Ты не тот, и я не та,
Тру-ту-ту и тра-та-та.
Я недавно проглядел подшивки «Литературной газеты» за 1951 - 1952 годы. В передовых статьях неизменно повторялось «о невиданном расцвете творчества». Пестрели фотографии многочисленных лауреатов. Но нельзя было предвидеть, на кого обрушится очередная беда. В течение целого месяца ругали украинских писателей: Корнейчук и Василевская провинились, написав либретто к опере. Сосюра опубликовал стихотворение, которое кому-то не понравилось, вспомнили, что в 1945 году у Рыльского были «вредные стихи», вернулись снова к Первомайскому оказалось, что он одновременно и «космополит», и «буржуазный националист». Другой месяц был посвящен критику Гурвичу, написавшему статью о романе «Далеко от Москвы». А. А. Фадеев и А. А. Сурков признались, что рекомендовали опубликовать статью, которую «Правда» назвала «рецидивом антипатриотических взглядов»… Редактор «Нового мира» А. Т. Твардовский «полностью признал свою вину». Некоторые статьи напоминали отчеты о судебных разбирательствах; только трудно теперь понять, в чем был состав преступления.
«Литературная газета» печатала некрологи: умерли Вишневский, А. Платонов, Павленко. Потом подоспели юбилеи - Гюго, Гоголя.
Замечательный памятник Гоголю перенесли с бульвара сначала в Донской монастырь, а потом во двор дома, где он умер. Гоголь сидел печальный, а писателю полагалось быть неизменно бодрым. Поставили новый памятник на цоколе красовался образцовый оптимист. Обычно считается, что памятники великим людям ставит народ. На новом памятнике Гоголю написали: «Николаю Васильевичу Гоголю от Правительства Советского Союза».
Конечно, были и в те неурожайные годы читательские радости: Гроссман написал роман о войне, в котором были прекрасные главы. Вера Панова опубликовала отрывки из новой книги «Времена года», впервые я увидел в литературе послевоенных подростков. Я прочитал «Районные будни» Овечкина, повесть молодого Гранина. Наверно, я пропускаю многое - трудно припомнить, когда попалась в руки та или иная книга.
В то время ко мне часто приходил Мартынов. Он разговаривал мало и в жизни бывал незрячим, скажу даже - косноязычным. Порой он не замечал людей. Однажды я его познакомил с Пабло Не рудой. Мартынова чилийский поэт изумил как явление природы, а ливни, засуха, таяние снегов, ветер всегда его изумляли. Он написал стихи о Неруде и показал его таким, каким он изображался в газетных статьях,- богатырем, мифическим бояном. А Неруда понял Мартынова: «Настоящий поэт - перед его глазами второй мир - искусства…» Мартынова после 1946 года не печатали. Он продолжал писать стихи, вынимал из карманов смятые листочки, читал мне, и каждый раз я дивился его поэтической силе: метеорология становилась эпопеей. А он рассеянно пил чай и отвечал невпопад на вопросы. То были годы расцвета его творчества. В 1955 году Мартынову исполнилось пятьдесят лет. Молодые поэты добились устройства его вечера в Доме литераторов и читали его стихи. Из старых писателей был, кажется, только я. Потом выступили представители литературных кружков московских заводов, железнодорожники. Все они говорили, что переписанные стихи Мартынова помогли им понять современную поэзию. Судьба поэта изменилась: несколько месяцев спустя вышла его книга.
Читали мне стихи и молодые - Винокуров, Межиров, Урин. Я написал в «Смене» о Винокурове - он тогда еще был зеленым юнцом, но в его скромных стихах проступали хорошие, умные строки.
Приходил студент Литинстигута Мандель, который после многих мытарств стал поэтом Коржавиным. Он был чрезвычайно сумбурным, порой нелепым, вступал в споры с преподавателями, писал стихи для друзей и для себя. Переписанные стихи попали не туда, куда должны попадать стихи. Манделя вызвали. Он напал на порядочного человека, который посоветовал больше не писать стихов, ни на что не похожих. Вскоре его все же арестовали, но ему снова повезло: его сослали на три года в дальнее сибирское село. Отец Манлеля - переплетчик, мать - врач, они посылали сыну толику денег. Поэт читал, думал, писал. Я его увидел возмужавшим; он рассказал, что решил уехать в Караганду, не дожидаясь, что его туда направят, поступил в горный техникум, стихи он продолжает писать, но не хочет зависеть от вкусов редакций; он прочитал мне вступление к поэме - писал, что легких эпох никогда не было, все зависит от человека. Недавно я получил от него первую книгу стихов.