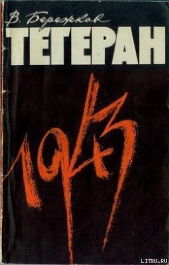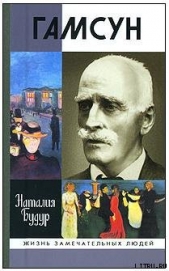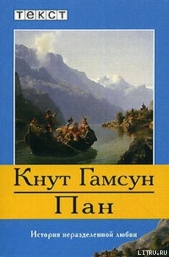"Люди, годы, жизнь", книга VI

"Люди, годы, жизнь", книга VI читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Секретариат помещался в большом доме на берегу Влтавы. Когда я приезжал, мне отводили комнату, и я сидел над папками; работа была кропотливой. Прага в то время выглядела уныло. Иногда меня звал к себе Лаффит, угощал достопримечательным ужином: он родом из Дордони, где люди знают толк в паштетах, козьем сыре и красном вине. В ранней молодости он был кондитером, а жена его, Жоржетт, может потягаться с премированными поварами. Мы не говорили ни о борьбе за мир, ни о литературе, а ели, пили и дурачились.
Иногда в воскресенье я ездил в Добриш - там в Доме писателей жил Жоржи Амаду с женой Зелией и маленьким сынишкой. Жоржи - живой, порывистый человек, такими мы представляем себе людей юга, а в Зелии мягкость и женственность уживаются с подлинным мужеством. Я с ними подружился. Жоржи и сиживал в тюрьмах, и дважды был в эмиграции, он легко приспособлялся к трудностям быта. В До-брише он весь день писал, а по вечерам играл в карты с чешским писателем Дрдой. Амаду, худой, подвижный, черноволосый, мог сойти за одесского или марсс-льского жулика, а грузный, веселый, норой с лукавством Дрда напоминал Швейка. За игрой они ругались по-чешски и по-португальски: «Шулер!», «Мошенник!», «Конокрад!»…
Амаду - коммунист и в течение двадцати лет занимался будничной политической работой. Он участвовал и в нашем движении. Нет в нем ни крупицы честолюбия. На Венский конгресс ему удалось привезти несколько бразильцев различных направлений, и он не захотел выступить: «Пусть говорит они…»
Он начал писать рано, первый его роман вышел в свет, когда автору было двадцать два года. Он прекрасно знает жизнь того края, где вырос - Северной Бразилии, края какао и голода. Я люблю его романы - в них сочетание жестокой правды с поэзией; это не литературная манера, а сущность Амаду - любовь к людям, участливость, человечность. Никогда я не забуду, как в одном из старых романов он описал исход голодающих крестьян и смерть осла Жеремиаса, кормильца семьи. Осел знал, что трава пустыни ядовита, он глодал кору деревьев, колючие кактусы, а потом не выдержал - съел ядовитую траву и печально закричал, прощаясь с жизнью.
Амаду лучше знали за границей, чем у него на родине. В 1954 году на аэродроме в Ресифе, где было невыносимо жарко, слонялся бродячий фотограф в поисках знатных путешественников. Кто-то посоветовал ему снять меня. Он рассказал мне: «Я три раза фотографировал Жоржи Амаду, но только один раз одна газета взяла у меня фото…» Слава пришла к Жоржи после романа «Габриэлла». Флобер говорил о госпоже Бовари: «Эмма - это я». Некоторые удивлялись - уж очень не похож был холостой скептик с его иронией на ветреную, влюбчивую провинциалку. А Габриэлла - это воистину Амаду, все люди, знающие автора, почувствовали родство между доброй, душевно свободной, послушной и вместе с тем мятежной женщиной и автором.
Из друзей моей молодости мало кто остался - одних убили, другие умерли в своей кровати. Амаду мог бы быть моим сыном, а стал близким другом, я знаю, что на другом конце света есть человек, который не усомнится, не забудет, а это очень много.
Вспоминаю день, когда в Добрише праздновали рождение дочери Жоржи и Зелии; ее назвали, как дочь Пикассо, Излома (Голубка). Николасу Гильену прислали с Кубы бутылку белого рома. Пабло Неруда унес бутылку и приготовил коктейль. Гильен обиделся, как ребенок: он ведь хотел всех угостить достопримечательностью Кубы. В Гильене вообще много детского. Он любит аплодисменты, медали; слава для него елка с блестящими звездами и хлопушками. Он долго пробыл в изгнании и неизменно тосковал по Кубе. Как-то мы шли в Париже по бульвару Сен-Мишель. Николас жаловался на свое одиночество. Вдруг две девушки остановились, пристально посмотрели на нас, одна из них попросила Гильена надписать книгу его стихов. Он сразу повеселел и, когда мы расставались, сказал: «Вот у меня оказались читательницы и в Париже!…»
Его стихи необыкновенно музыкальны. Они связаны с песнями кубинских негров и мулатов. Он их замечательно читает; может, ударяя пальцем по крупным ярко-белым зубам, выстукивать мелодии. Революционную борьбу он начал давно, хотя личная судьба его к этому не принуждала - он был сыном сенатора, одаренным поэтом, первую книгу которого похвалил взыскательный Унамуно. Во время гражданской войны Гильен был в Испании. Потом узнал тюрьмы Батисты. Он писал короткие стихи о милой ему родине:
Птица прилетела неживая,
прилетела с песенкой печальной.
Ах, Куба, тебя я знаю!
На крови растут твои пальмы,
слезы - вода голубая.
«Холодная война» была в разгаре, и это порой придавало нашей работе романтический характер. Второй конгресс должен был состояться в Шеффилде; однако за два месяца до назначенного срока мы получили из Англии неутешительные вести: по всей видимости, правительство сорвет нашу затею. Мы попросили поляков подготовить помещение; забронировали места в самолетах. Настала хорошо мне памятная ночь: Жолио-Кюри с группой делегатов выехал из Парижа в Лондон, ехал он поездом, а через Ла-Манш на пароходе. Ночью в Прагу позвонили из Лондона: «Жолио не впустили»… На рассвете мы начали его разыскивать по телефону. Портов много - где же Жолио: в Кале, в Булоне, в Гавре?… Мадемуазель Булонь (так называют телефонисток) была чрезвычайно любезна, сказала, что постарается найти Жолио-Кюри, и вскоре сообщила, что Жолио в Дюнкерке. Мадемуазель Дюнкерк оказалась не менее приветливой и соединила нас с Жолио - он завтракал в маленьком кафе возле порта. С ним говорил Фарж, потом я. Это было своеобразное заседание но телефону. Час спустя мы дали в печать сообщение: конгресс переносится в Варшаву.
Сессии Всемирного Совета в те годы собирались часто. Когда выступали Жолио, Фарж, Нении, Донини, Фадеев, зал бывал переполнен. Бывали и скучные заседания. Хотелось выступить всем, устраивали ночные заседания, под утро председатель боролся со сном, и оратор патетически восклицал перед пустым залом: «Мы не ослабим нашей бдительности!…»
Помню, в одни из тусклых дней я увидел Д. Д. Шостаковича; он сидел с наушниками; лицо его было очень мрачным. Я подошел к нему, он шепнул, что его оторвали от работы, и вот приходится слушать… Я сказал: «Да вы не слушайте, снимите наушники». Дмитрий Дмитриевич отказался: «Все знают, что я не владею иностранными языками, скажут -«неуважение к общественности»… На следующий день я снова увидел его с наушниками, но счастливым. Он объяснил: «Догадался - вынул вилку из штепселя… Теперь я ничего не слышу. Удивительно хорошо!…» Говорил он, как всегда, скороговоркой и походил на ребенка, которому удалось перехитрить взрослых.