Прах Энджелы. Воспоминания
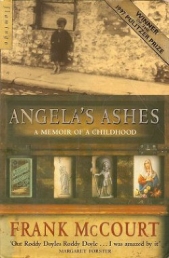
Прах Энджелы. Воспоминания читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Миссис О’Коннел поджала губы и нарочно на меня не глядит. Я слышала, обращается она к мисс Барри, что один выскочка с переулка решил не сдавать экзамен. Это, надо полагать, ниже его достоинства.
Ваша правда, отвечает мисс Барри.
И с нами знаться, полагаю, ниже его достоинства.
Ваша правда.
Как думаете, он нам объяснит, почему не пошел на экзамен?
Ну, может и объяснит, отвечает мисс Барри, если мы на коленочки встанем и слезно его попросим.
Я говорю: миссис О’Коннел, я хочу уехать в Америку.
Вы слышите, мисс Барри?
О да, слышу, миссис О’Коннел.
Заговорил.
Верно, заговорил.
Он еще поплачет.
Поплачет как миленький, миссис О’Коннел.
Словно не видя меня, миссис О’Коннел обращается к ребятам, которые сидят на скамейке в очереди за телеграммами: вот, полюбуйтесь - Фрэнки Маккорт считает, что работать на почте – ниже его достоинства.
Миссис О’Коннел, я так не считаю.
А кто вам велел пасть разевать, ваше высочество? Мелковаты мы для него, да, ребята?
Да, миссис О’Коннел.
А мы столько сделали для него. Мы давали ему телеграммы с хорошими чаевыми, в погожие дни отправляли за город, на работу опять его приняли, когда он так опозорил нас перед тем англичанином, мистером Харрингтоном, и недостойно повел себя в присутствии тела бедной миссис Харрингтон, набил рот бутербродами с ветчиной, набрался шерри, выпрыгнул из окна, переломал все розовые кусты, сюда пришел пьяный в дым, и кто знает, что он еще натворил за два года на почте, и правда, кто знает, хотя нам-то все известно, верно, мисс Барри?
О да, мисс О’Коннел, но о таком и говорить-то неприлично.
Она что-то шепчет мисс Барри, и они обе глядят на меня, покачивая головами.
Всю Ирландию позорит, и свою бедную мать. Надеюсь, она никогда не узнает. Но чего вы хотите - американец, да и папаша у него с Севера. А мы, хоть и знали все это, приняли его обратно.
Она обращается к ребятам на скамейке, словно меня тут нет.
Он уходит в «Изонс», так вот, к протестантам этим, к франкмасонам из Дублина. Работать на почте - ниже его достоинства, но распространять по всему городу мерзкие английские журнальчики – это пожалуйста. Каждый журнал, какой он в руки возьмет – это грех смертный. Но он уходит от нас, так вот, а его бедняжка-мать молилась о том, чтобы сын получал пенсию, чтобы мог о ней позаботиться на старости лет. Ну, вот тебе зарплата, забирай, и уходи с глаз долой.
Какой он бессовестный, говорит мисс Барри. Правда, ребята?
Правда, мисс Барри.
Я не знаю, что ответить. Не понимаю, что сделал плохого. Мне надо просить прощения? Сказать «до свидания»?
Я выкладываю на стол мисс О’Коннел свой пояс и сумку. Она сердито смотрит на меня: давай, уходи в «Изонс». Бросай нас. Следующий, подходи за телеграммами.
Все возвращаются к работе, а я спускаюсь по ступенькам – к новой главе моей жизни.
XVII
Я не знаю, зачем миссис О’Коннел надо было позорить меня на весь свет, и я не считаю, что почта или что-либо еще ниже моего достоинства. Как я могу так считать, если волосы у меня торчком, лицо прыщавое, глаза красные, из-под век сочится желтая слизь, зубы гниют и крошатся, плечей считай нет, и задницы тоже - ведь я отмахал на велосипеде тринадцать тысячь миль и доставил двадцать тысяч телеграмм по всем адресам в Лимерике и за его пределами.
Миссис О’Коннел давно говорила, что ей все известно про всех ребят на почте. Наверняка она знает, что я давал волю рукам на Карригоганнеле, а молочницы и дети в долине пялилились на меня.
Наверняка она знает про Терезу Кармоди и про зеленый диван, и про то, что я соблазнил ее и отправил в ад, а это грех самый ужасный, хуже чем карригоганнельский в тысячу раз. Должно быть, она знает, что я после Терезы так и не был на исповеди и сам теперь попаду в ад.
Для того, кто совершил такой грех, ни почта, ни что-либо еще, не может быть ниже его достоинтства.
Бармен в «Саутс Паб» помнит меня еще с того дня, когда я сидел с мистером Хэнноном, Биллом Гэлвином, дядей Па Китингом – двое белые, один черный. Он помнит, как мой отец пропивал зарплату и пособие, распевая патриотические песни, и выступал со скамьи подсудимых, как приговоренный к смерти бунтарь.
Чем могу служить? – говорит бармен.
Я должен тут встретиться с дядей Па Китингом, он угостит меня первой пинтой.
Вот как? Надо же. Он придет через минуту, и я налью ему пинту, почему бы нет, да и тебе налью, от чего ж не налить?
Спасибо, сэр.
Приходит дядя Па и приглашает меня сесть рядом с ним у стены. Бармен приносит две пинты, дядя Па расплачивается, поднимает свой стакан и сообщает сидящим вокруг: это мой племянник, Фрэнки Маккорт, сын Энджелы Шихан, сестры моей жены, и это его первая пинта. Твое здоровье, Фрэнки, живи долго и радуйся пиву, только сильно не увлекайся.
Его товарищи поднимают стаканы, кивают и пьют, а на губах и на усах у них остаются следы пены. Я отпиваю большой глоток из стакана, и дядя Па говорит: не спеши, Христа ради, залпом не пей - никуда оно не денется, покуда семейство Гиннес живет и здравствует.
Я хочу угостить его пинтой на последнюю зарплату, которую мне дали на почте, но он говорит: нет, лучше отдай деньги матери, а пинту мне поставишь, когда вернешься из Америки - румяный, преуспевающий, да с жаркой блондиночкой под руку.
Мужчины в пабе говорят: просто ужас, что в мире творится, и Боже мой, как же это Герману Герингу за час до казни удалось всех обставить. Янки в Нюрнберге заявляют, что не знают, где этот ублюдок-нацист взял таблетку. Он ее что, в ухе пронес? В носу? В заднице? Уж как янки ни обыскивали пойманных ими нацистов, так и эдак щупали, а Геринг им все-таки нос утер. Так вот. Выходит, можно переплыть через Атлантику, высадиться в Нормандии, всю Германию разбомбить и стереть с лица земли, но в конце концов, все равно не найти маленькую таблеточку в дальних закоулках Геринговой задницы.
Дядя Па берет мне еще одну пинту. Пить ее трудней, потому что пиво встает у меня поперек горла, и пузо выпячивается. Все вокруг обсуждают концентрационные лагеря и бедных евреев, которые ни единой душе зла не сделали – толпы мужчин, женщин, детей, в душегубках битком - а дети, только подумайте, они-то плохого что сделали, ботиночки их крошечные повсюду разбросаны, народу битком, - и паб в тумане, голоса звучат то громче, то тише. Ты как? - спрашивает дядя Па. Ты белый, как простыня. Он ведет меня в туалет, и мы вдвоем облегчаемся на стену, которая движется взад-вперед. У меня нету сил возвращаться в паб - сигаретный дым, выдохшийся Гиннес, толстый зад Геринга, ботиночки разбросанные - не могу, до свидания, дядя Па, спасибо - он велит мне идти сразу домой, к матери, прямо домой - ох, он не знает, что было на чердаке, и на зеленом диване, и я теперь такой грешник, что умри я прямо сейчас, в ад попаду во мгновение ока.
Дядя Па возвращается в паб. Я иду по О’Коннел Стрит, и думаю: до церкви иезуитов пара шагов, может, пойду к ним, исповедуюсь в последний день, пока мне пятнадцать. Я звоню в дверь приходского дома, ее открывает рослый мужчина. Да? Я говорю: отче, хочу на исповедь. Он говорит: я не священник. Не называй меня «отче». Я брат.
Хорошо, брат. Хочу исповедаться – у меня день рождения завтра, шестнадцать. Чтоб в состоянии благодати.
Пошел прочь, говорит он. Ты пьян. Сам ребенок еще, а пьян как сапожник и ломишься к священнику в такой поздний час. Поди прочь, или я полицию позову.
Ой, не надо. Не надо. Я только хотел исповедаться. А то мне в аду гореть.
Ты пьян. И не раскаялся как следует.
Он закрывает дверь у меня перед носом. Опять закрыли дверь у меня перед носом - но мне завтра шестнадцать, и я звоню снова. Брат открывает дверь, разворачивает меня, толкает ногой под зад, и я лечу по ступенькам.
Еще раз позвонишь, грозится он - я тебе руку сломаю.
Братьям-иезуитам так вести себя не положено. Они ведь должны быть как Наш Господь, а не рычать, что руки переломают.

























