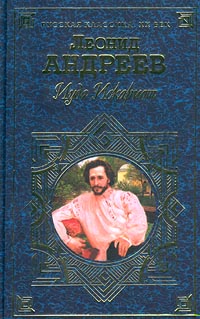Сборник рассказов

Сборник рассказов читать книгу онлайн
В данный сборник включены короткие рассказы (до +/-100 Kb в формате fb2) Леонида Андреева, представленные в библиотеке FictionBook на данный момент (12.10.05). Рассказы объединены по годам написания и представлены без комментариев издательств, современников и т.д.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Да за границу.
Каруев раздраженно ответил:
– А я думал что! – но потом спохватился и вежливо добавил: – Конечно, поезжайте. Чего ж вам тут сидеть? Полечитесь там, нервы подвинтите.
– Я лето хочу в Швейцарии прожить.
– Вот, вот! На что лучше, – похвалил Каруев и вежливо, как с малознакомым, простился с Чистяковым. Он тоже куда-то на время уезжал.
В середине марта один из хозяев шестьдесят четвертого номера, Панов, праздновал свои именины и позвал Чистякова. Ездили уже на колесах, и когда Чистяков вышел с последнего урока, на него пахнуло отрадной свежестью и первым весенним теплом. «Скоро!» – подумал он, и сердце его трепыхнулось, как птица, и выросло в душе что-то печальное и больное, как у всех уезжающих надолго, навсегда, – и потонуло в волне широкой радости и торжества. Ночное небо над городом было черное, и по небу таинственно неслись огромные белые хлопья облаков, как гигантские белые птицы. В одну сторону неслись они, и был в их быстром и молчаливом полете могучий призыв к такому же вольному и счастливому полету. «Скоро! Скоро!» – думал Чистяков.
Народ уже давно собрался, когда он пришел в номера; было уже выпито водки и чаю, и все собирались петь. Чистяков устало уселся в углу, на сложенных кучею пальто, и с дружелюбной грустью смотрел на собравшихся: всего только через месяц он уезжал надолго – навсегда. Спели хором две студенческие песни, а потом выделились трое: консерваторка Михайлова, у которой было хорошее сопрано, сам именинник, певший сильным и красивым басом, и еще один белокурый студент, тенор. Тишина наступила, и бас одиноко и медленно запел, и Чистяков вздрогнул: так неожиданно хороша была песня:
Торжественным покоем, великой грустью и любовью были проникнуты величавые, могуче-сдержанные звуки: кто-то большой и темный, как сама ночь, кто-то всевидящий и оттого жалеющий и бесконечно печальный тихо окутывал землю своим мягким покровом, и до крайних пределов ее должен был дойти его мощный и сдержанный голос. «Боже мой, ведь это о нас, о нас!» – подумал Чистяков и весь потянулся к певцам.
И когда замер последний звук, вступил звонкий тенор и повторил – как будто отозвалась земля на жалеющие и ласковые слова, и мольбою дышала ее молитвенная речь:
И с той же величавой грустью и покоем лился в пространстве томный, мужественный бас:
Что-то сверкающее и драгоценное, как слезы, упало с высокого неба и пронизало тьму широкого густого баса и нежным горячим стоном смешалось с воплями земли:
«Боже мой, Боже мой! Ведь это она поет! – подумал Чистяков, вглядываясь в побледневшее лицо девушки. – О милая, ведь это о нас, о нас!»
И все трое, смешав голоса, пронизывая ими друг друга, слившись в одну величавую, скорбную гармонию, повторили:
Потом пелись другие грустные песни, но Чистяков не слыхал их, и все в нем трепетало от бесконечной жалости к себе, который весь день без устали трудился, к кому-то безличному, большому, нуждавшемуся в покое, любви и тихом отдыхе.
Привел его в себя веселый и шумный разговор вокруг Райко Вукича. Его опять дразнили, а он, сверх обыкновения, молчал, и только острые, как жало осы, глазки перебегали с одного на другого и двигался щетинистый раздвоенный подбородок.
– А что, Райко, – спрашивал Ванька Костюрин, – у вас у всех там носы крючком, как у тебя?
Райко медленно ответил:
– На днях серба одного, Боиовича, на границе зарезали. Турци зарезали.
И всем ясно представился зарезанный серб, какой-то Боиович, у которого мертвецки-желтый и крючковатый нос, как у Райко, и на горле широкая черная рана. Было неприятно, и Костюрин с деланным смехом сказал:
– Эка важность! Много еще осталось.
Райко ощетинился, побледнел, и колючки на его раздвоенном подбородке задрожали. И когда он заговорил, голос у него был металлический и резкий.
– Ти обманщик. Зачем ти пляшешь русского? У тебя нет родины, нет дома! Ти свинья.
Но ответил Чистяков, точно упрек касался его. Глухо и спокойно он сказал:
– А ты, Райко, любишь Сербию?
– Ну да, люблю.
– А!
Все молчали – и, схватив круглый столовый нож, потрясая им в воздухе, Райко дико закричал:
– Убию! Ой, какой я злой! Как у меня болит сердце! Ой, как болит!..
Он с силою пустил нож в стену, и нож ударился плашмя и со звоном отскочил. Райко, не глядя, вышел.
Через полчаса за ним отправился Чистяков; ему было жаль маленького Райко, так сильно любившего свою маленькую, смертельно обидевшую его родину. Когда он еще шел по длинному, полутемному коридору, теряясь среди одинаковых, похожих одна на другую дверей, уха его коснулись какие-то странные звуки, похожие на вой или крик о помощи. На другой двери была надпись мелом: «Райко Вукич», и оттуда шли эти странные и теперь громкие звуки. На стук Чистякова ответа не было, и он вошел, смутно различая на светлом фоне окна маленькую острую фигурку Райко: он сидел на подоконнике, в темноте, и пел необыкновенно высоким гортанным голосом.
– Райко! – тихо окликнул его Чистяков.
Но Райко не слышал. Он не слышал, как хлопнула дверь, он не слышал шагов Чистякова и его голоса; он глядел на высокую кирпичную стену с черной полосой дымной копоти и пел. О далекой родине он пел; о ее глухих страданиях, о слезах осиротевших матерей и жен; он молил ее, далекую родину, взять его, маленького Райко, и схоронить у себя и дать ему счастье поцеловать перед смертью ту землю, на которой он родился; о жестокой мести врагам он пел; о любви и сострадании к побежденным братьям, о сербе Боиовиче, у которого на горле широкая черная рана, о том, как болит сердце у него, маленького Райко, разлученного с матерью-родиной, несчастной, страдающей родиной.
Чистяков не понимал слов, но он слышал звуки, и дикие, грубые, стихийные, как стон самой земли, похожие скорее на вой заброшенного одинокого пса, чем на человеческую песню, – они дышали такой безысходной тоскою и жгучей ненавистью, что не нужно было слов, чтобы видеть окровавленное сердце певца.