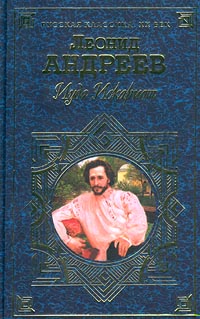Сборник рассказов

Сборник рассказов читать книгу онлайн
В данный сборник включены короткие рассказы (до +/-100 Kb в формате fb2) Леонида Андреева, представленные в библиотеке FictionBook на данный момент (12.10.05). Рассказы объединены по годам написания и представлены без комментариев издательств, современников и т.д.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И особенно не любил его Ванька Костюрин; сам он носил высокие сапоги, а летом в деревне поддевку, уважал все русское, водку, квас, жирные щи и мужиков, и старался говорить грубым голосом и по-простонародному: вместо «кажется» говорил «кажись» и часто употреблял слово «давеча». И он не понимал упорного стремления Чистякова за границу и причислял его почему-то к той же категории явлений, как белые перчатки, постоянная трезвость, визиты и модные сапоги; и два другие названия, данные им Чистякову, были такие: «аристократ» и «собачья старость». Остальные были равнодушны ко всему русскому, охотно бранили его и говорили Чистякову, что и сами поехали бы учиться и жить за границей, если бы деньги. А он уговаривал их, доказывал, что денег всегда можно достать, волновался, но потом вглядывался в их добродушные полупьяные рожи, вспоминал всю их ленивую, распущенную жизнь – и равнодушно умолкал. Где-нибудь в углу на смятой постели он усаживался и смотрел оттуда блестящими и далекими глазами, такой бледный, узкогрудый и решительный.
А остальные весело и беззаботно жили со всею беспечностью молодости и здоровья, как будто не было у них ни вчерашнего, ни завтрашнего дня, ни проклятых вопросов, которые несет с собою проклятая действительность. Широкоплечий, волосатый, толстошеий Толкачев, с маленькими и тупыми глазками, показывал силу своих мышц, подымал гири и заставлял всех смотреть на себя и восхищаться: он был членом гимнастического общества, признавал одну только силу и открыто презирал университет, студентов, науку и всякие вопросы. И многие его ненавидели, но боялись его чудовищной силы, его грубости, которая ни перед чем не останавливается, и даже за глаза не решались говорить о нем дурно. И когда кто-нибудь, выведенный из терпения, начинал спорить с ним, то всегда начинал спор словами:
– Конечно, всякий свободен в своих убеждениях, но ты, Костя, едва ли прав…
А он не понимал этой деликатности и спокойно обрывал спор:
– Ну, стоит с вами, с дураками, разговаривать. Будь моя воля, я каждый бы день всех вас на конюшне драл.
И все делали вид, что он шутит, и смеялись. Хозяин Панов крошил лук для селедки и плакал; серб Райко Вукич, низенький, сухой, жилистый, горбоносый, с острым раздвоенным подбородком, по которому выступала колючая щетина, и с обвисшими усами, глядел на водку, молчал и ждал, когда нальют. Этот Райко был чудак. Трезвый он молчал, а когда выпивал немного водки, то начинал смешным и ломаным языком горячо и упорно рассказывать про Сербию – какие-то мелкие и неинтересные вещи: о партиях, о радикалах и турках, о каком-то скверном и ужасном человеке Бодемличе и еще о чем-то. И он так расхваливал маленькую и плохонькую Сербию, что все умирали со смеху и нарочно дразнили его.
– Господи! – удивлялся Ванька Костюрин. – Говорит про Сербию, а она вся-то с эту селедку. Возьмет ее турок да и проглотит.
– Подавится! – возражал Райко, щетинясь усами, подбородком, острыми глазками, всей своей колючей и жилистой фигуркой.
– И выплюнет: экая дрянь, скажет!
Райко вспыхивал, окидывал гневным взглядом собравшихся и свирепо бросал:
– Осли!
И уходил в свой номер. Товарищи хохотали, а Чистяков, печально улыбаясь, думал, какая это действительно маленькая и грустная страна задорных и слабеньких людей, постоянной неурядицы, чего-то мелкого и жалкого, как игра детей в солдаты. И ему было жаль маленького Райко и хотелось взять его за границу, чтобы он увидел там настоящую, широкую и умную жизнь.
Когда бутылки наполовину пустели, студенты начинали петь, играть на гармонии и кого-нибудь посылали за Райко, который считался специалистом по бубну. Райко являлся и мрачно бубнил, а глаза его горели, словно у волка, и были остры, как жало осы. Если становилось очень весело и разгоряченная кровь ходуном начинала ходить по жилам, Ванька Костюрин вскакивал, подергивал плечами и плясал русскую. Громоздкий и неуклюжий, в пляске он был легок и перышком носился по комнате: выбивал каблуками частую дробь, взвизгивал, гикал, и вся комната точно вертелась и дрожала от стука, заливистых звуков гармонии и захлебывающегося рычания бубна. И у всех смотревших сверкали глаза, подергивались руки и ноги, и кто-нибудь отходил в угол, с безнадежным восторгом махал рукою и откуда-то из глубины выдыхал томительное и сладкое: э-э-х! И все они казались Чистякову похожими на сумасшедших.
Кончив пляску и тяжело отдуваясь, Ванька Костюрин просил Райко:
– А ну, Райко, покажи, как у вас пляшут. Небось так не умеют.
– Так не умеют, а лучше умеют.
– Да ты покажи, не бойся! Я знаю, у вас хорошо пляшут.
Все уговаривали, и Райко, пугливо и злобно озираясь, откладывал бубен. Потом лицо его становилось свирепым и кровожадным, и он делал несколько странных, порывистых и колючих движений – как будто не плясать он собирался, а душить, царапать и убивать. Без музыки, серьезный, немного страшный, он так похож был на маленького дикаря, что все разражались хохотом, а Райко опять обиженно ругался и уходил.
«Как они грубы!» – думал Чистяков, и ему было жаль маленького Райко, так сильно любившего свою маленькую родину.
Бывал в шестьдесят четвертом номере студент Каруев, всегда ровный, всегда веселый и слегка высокомерный. При нем все несколько менялось: пелись только хорошие песни, никто не дразнил Райко, и силач Толкачев, не знавший границ ни в наглости, ни в раболепстве, услужливо помогал ему надевать пальто. А Каруев иногда умышленно забывал поздороваться с ним и заставлял его делать фокусы, как ученую собаку:
– Ну-ка ты, мясо, подними-ка стол за ножку!
Толкачев самодовольно поднимал.
– А ну-ка согни двугривенный.
Толкачев сгибал и стыдливо говорил:
– А папаша у меня мог кочергу в бантик завязать.
Но Каруев уже не слушал его и шел разговаривать к одиноко сидевшему Чистякову. С ним он был всегда серьезен и жалеюще-внимателен, как доктор, и когда разговаривал, то близко и ласково заглядывал ему в глаза. А Чистяков тоже жалел его и постоянно звал с собою за границу.
– Ну как, едете? – спрашивал Каруев.
– Двести двадцать собрал. Еще сто восемьдесят не хватает. А вы? – улыбался Чистяков.