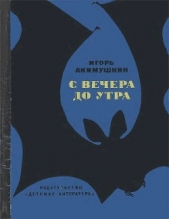Том 2. Невинный. Сон весеннего утра. Сон осеннего вечера. Мертвый город. Джоконда. Новеллы

Том 2. Невинный. Сон весеннего утра. Сон осеннего вечера. Мертвый город. Джоконда. Новеллы читать книгу онлайн
Габриэле Д'Аннунцио (настоящая фамилия Рапаньетта; 1863–1938) — итальянский писатель, поэт, драматург и политический деятель, оказавший сильное влияние на русских акмеистов. Произведения писателя пронизаны духом романтизма, героизма, эпикурейства, эротизма, патриотизма. К началу Первой мировой войны он был наиболее известным итальянским писателем в Европе и мире.
Во второй том Собрания сочинений вошел роман «Невинный», пьесы «Сон весеннего утра», «Сон осеннего вечера», «Мертвый город», «Джоконда» и новеллы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Александр (садясь несколько в стороне, глухим голосом, подавленный беспокойством). Вот, я сижу здесь… я жду… жду… ты в тени… я тебя почти не вижу… говори!
Леонард. Как сказать?..
Молчание. Они сидят друг против друга в темноте, оживленной блеском драгоценностей. Когда Леонард начинает говорить, голос у него дикий и надорванный. Александр неподвижно слушает его, словно все его существо сжалось от волнения.
Ах, ты ее знаешь, ты знаешь ее!.. Ты знаешь, какое дивное, нежное, какое чистое создание… моя сестра… Ты знаешь, ты знаешь, чем она стала для меня в годы одиночества и труда!.. Она стала благоуханием моей жизни, отдыхом и свежестью, советом и поддержкой, мечтой, поэзией и всем… Ты знаешь, ты это знаешь!.. (Молчание) Какие другие радости знавал я в своей юности? Какая другая женщина подходила ко мне на моем пути? Никто. Моя кровь текла без всякого волнения… Я жил, словно дав обет, я дрожал только перед красотой статуй, которые я отрывал. В пустыне наша жизнь была всегда чиста, как молитва. Ах, пустыня!.. Сколько дней, сколько дней мы прожили друг возле друга, брат и сестра, одинокие, одинокие счастливые, как дети… Я ел плоды, на которых были следы ее зубов, я пил воду из ее ладоней. (Молчание.) Одинокие, вечно одинокие, в домах, полных света!.. Теперь ты представь себе человека, который бессознательно пил яд, любовный напиток, что-то нечистое, отравившее ему кровь, осквернившее его мысли: незаметно, в то время как его душа наслаждалась миром… Представь это невероятное несчастье!.. Ты переживаешь обычный час твоего существования, час, похожий на всякий другой, зимний день, ясный и чистый, как алмаз — все ясно, все видно, вблизи и вдали. Ты возвращаешься после своего труда: твое напряжение унимается, ты не замечаешь ничего необыкновенного ни в себе, ни в окружающем: твое дыхание мерно, твоя душа спокойна, твоя жизнь течет, как вчера, по законам постоянства, от прошедшего к будущему… Ты входишь в дом, как вчера, полный тишины и света, открываешь дверь, входишь… и видишь ее, ее, твою невинную подругу, ты видишь ее уснувшей у камина, покрасневшей от пламени, с маленькими ногами, протянутыми к его теплу. Ты смотришь на нее и улыбаешься. И пока ты улыбаешься, внезапная и невольная мысль пронизывает твою душу: грязная мысль, перед которой все твое существо содрогается от отвращения… Тщетно! Тщетно! Мысль упорствует, крепнет, становится чудовищной, господствующей… Ах, разве это возможно?.. Она завладевает тобой, проникает в твою кровь, охватывает все твои чувства. И ты становишься ее добычей, ее жалкой и трепещущей добычей, и вся твоя душа, твоя чистая душа заражена, и все в тебе — грязь и осквернение… Ах, разве это вероятно?
Почувствовав, что Александр дрожит в темноте, он вскакивает. Все его тело охвачено дрожью, похожей на лихорадку. Сделав несколько шагов по направлению к балкону, он садится снова. Александр пристально смотрит на него широко раскрытыми глазами.
Теперь представь мою жизнь здесь, в этом доме, жизнь с ней и с этим чудовищем. Здесь, в этом доме, полном света и полном мрака, я один с ней одной!.. Отчаянная, затаенная борьба без перерыва, без отдыха, день и ночь, каждый час и каждое мгновение, борьба тем более ожесточенная, чем теснее сосредоточивалось на моей заразе бессознательное сострадание этого бледного существа… Ничто не помогало: ни почти исступленный труд, ни усталость, почти животная, ни оцепенение, которое наводили на меня зной и пыль, ни волнение при виде все новых и новых следов в земле, которую я рыл: ничто, ничто не могло подавить ужасную лихорадку, не могло, хотя бы на несколько мгновений, прервать преступное безумие. Заметив, что она идет ко мне, я закрывал глаза, и веки на моих глазах были, как пламя над пламенем… И я думал, в то время как моя кровь оглушала мой слух, с волнением, которое мне всегда казалось последним волнением в моей жизни, я думал: «Ах, если бы, открыв глаза, я мог смотреть на нее, как смотрел прежде, если бы я мог снова видеть в ней святую сестру!» Моя воля потрясала моей бедной душой, стараясь избавить ее от зла, в неистовом ужасе и с безумным страхом человека, который вытряхивает свою одежду, куда заползла гадина. Но тщетно, вечно тщетно! Она подходила ко мне шагом, конечно, своим обычным шагом, но он казался мне другим и смущал меня, как двусмысленный язык. И чем больше беспокойства и печали она замечала во мне, тем нежнее становилась она. А когда она касалась меня своими беспечными руками, все кости дрожали и холодели во мне, сердце у меня останавливалось, мой лоб обливался потом, а корни моих волос становились чувствительными, словно от страха смерти. Ах, бесконечно хуже смерти было для меня предположение, что она могла отгадать истину, эту чудовищную истину! (Молчание.) А ночь! Ночь! Если свет был страшен для меня, то темнота была еще страшнее: эта полная теплых вздохов темнота, темнота, доводящая до бреда, до безумия… Она спала в соседней комнате. Каждый вечер, на пороге, при расставании, она подставляла мне свои щеки для поцелуев, иногда она говорила со мной из своей постели, через стену… Прислушиваясь, в часы своей мучительной бессонницы, я слышал мерное дыхание спящей. Как тут уснуть! Казалось, мои веки ранили мои глаза, ресницы были каким-то жалом в ране… Тяжелые часы уходили один за другим, приходила заря, а с зарей невыносимая усталость сменялась невыносимой дремотой, и в этой дремоте сны… сны… Ах, гнусные сны, от которых душе моей не было защиты! Лучше бодрствовать, лучше мучиться на своей подушке, как на терниях, — лучше умирать от изнеможения… Ты понимаешь? Понимаешь? Когда, наконец, сон вдруг преодолевает муку, словно давлением какого-то гнета, когда бедное тело наливается свинцом, когда все существо жаждет смерти, обморока — ты понимаешь? — эта отчаянная борьба против принуждения природы, из страха во сне сделаться невольной добычей отвратительного чудовища… Я просыпаюсь, потрясенный, как если бы преступление было уже совершено, с телом, совершенно сдавленным ужасом, не зная, снилось ли мне, или я еще не успел остыть от жара преступления, просыпаюсь еще более надломленный, еще более несчастный, с отвращением к свету — я, кто так боится темноты! — инстинктивно опуская голову и глаза, как преступник…
Александр (задыхающимся, неузнаваемым голосом). Молчи! Молчи!
Он встает, в судорогах, не в силах совладать со своим мучением, уходит на балкон, вздыхает, поднимает лицо к звездному небу.
Леонард. Ах, я заставил тебя задыхаться… Любуйся, любуйся звездным небом. Дыши — тебе это можно…
Александр (подойдя к нему, касаясь его головы своей дрожащей рукой, тихим голосом). Теперь молчи! Молчи! Больше ни слова.
Шатаясь, он делает несколько шагов в темноте, подходит к двери, открыв ее, смотрит в пустоту, закрывает дверь, затем подходит к Леонарду, который сидит, согнувшись, закрыв лицо руками, и трогает его за голову. Он вторично возвращается на балкон. Леонард встает и приближается к нему. Они оба, друг возле друга, молча всматриваются в усеянную пылающими кострами равнину, погруженную в необыкновенно тихий и ясный вечер.
Комната первого действия. Большая терраса открыта, вверху, в промежутке между колоннами, виднеется ночное небо, мерцающее звездами. На одном из уставленных драгоценностями столов горит свеча. Глубокое молчание.
Анна сидит у лестницы. Дыхание ночи набегает на ее бледное лицо, поднятое к звездам, которых она не может видеть. Когда она говорит, в ее голосе слышно особенное неуловимое одушевление, похожее на возбужденность легкого опьянения. Кормилица стоит перед ней на коленях, она печальна и подавлена.