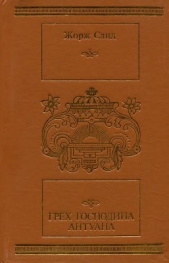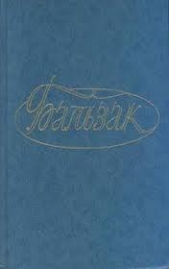Утраченные иллюзии
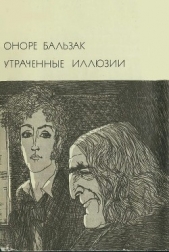
Утраченные иллюзии читать книгу онлайн
"Утраченные иллюзии" датированы 1835–1843 гг. Произведение было сначала задумано как повесть об обольстившихся друг другом провинциальном поэте и провинциальной львице; попав в Париж, они увидели друг друга в подлинном, беспощадном свете — и расстались. Но когда повесть была написана, она явилась лишь введением к роману.
Действие романа происходит в 1819–1823 гг. и органично вписано в эти годы, в своих главных, самых общих линиях оно мотивировано историей Франции. Каждый персонаж "Утраченных иллюзий" приходит в роман из прошлого своей страны, своей семьи и своего собственного.
Перевод с французского Н. Г. Яковлевой.
Вступительная статья Р. Резник.
Иллюстрации М. Майофиса.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Но власть издает карательные законы, — сказал дю Брюэль, — они уже подготовляются.
— Б-ба! — сказал Натан. — Что же может сделать закон против французского остроумия, самого ядовитого из всех ядовитых веществ?
— Идеи могут быть обезврежены только идеями, — продолжал Виньон. — Только террор и деспотизм могут удушить французский гений; наш язык чудесно приспособлен к намекам, к выражению двойного смысла вещей. Чем жестче будут законы, тем разрушительнее будет сила остроумия, как взрывы пара в котле с закрытым предохранительным клапаном. Допустим, король сделает что-либо для блага страны; если газета настроена против короля, все будет приписано министру, и обратно. Если газета измыслила наглую клевету, она сошлется на неверные сведения. Если оскорбленный ею человек вздумает жаловаться, она попросит простить ей вольность. Если подадут в суд, она будет возражать, что от нее не требовали опровержений; но, ежели бы потребовали опровержения, натолкнулись бы на отказ в шутливой форме, — она сочтет свое преступление вздором. Наконец, она высмеет свою жертву, если та восторжествует. Ежели газете случится понести наказание, заплатить слишком крупный штраф, она представит жалобщика врагом свободы, родины и просвещения. Она скажет, что такой-то, допустим, вор, а потом разъяснит, что он самый честный человек в королевстве. Итак, ее преступление — милая шутка! Ее обидчики — чудовища! И в ее власти, в тот или иной срок, заставить людей, читающих газету, всему поверить. Затем все, что ей не по нраву, окажется непатриотичным, и она всегда будет права. Она обратит религию против религии, хартию против короля; она вышутит судебные власти, когда те ее затронут, и станет их восхвалять, когда они будут потакать страстям толпы. Чтобы привлечь подписчиков, она сочинит самые трогательные сказки, будет паясничать, точно Бобеш {130} перед балаганом. Газета ради хлесткого слова не пожалеет родного отца, только бы заинтересовать или позабавить читателей. Она уподобится актеру, который в бутафорскую урну положил прах своего сына, чтобы на сцене плакать настоящими слезами, или возлюбленной, готовой пожертвовать всем ради своего милого.
— Словом, это народ in folio! [30] — вскричал Блонде, прерывая Виньона.
— Народ лицемерный и лишенный великодушия, — продолжал Виньон, — он изгонит из своей среды талант, как афиняне изгнали Аристида. Мы увидим, что газеты, руководимые вначале честными людьми, попадут в руки людей посредственных, эластичных, как гуттаперча, отличающихся податливостью и малодушием — качествами, которых недостает гению, либо в руки лавочников, достаточно богатых, чтобы покупать наше перо. Мы уже наблюдаем нечто подобное. Но через десять лет любой мальчишка, вышедший из коллежа, возомнит себя великим человеком, он взберется на газетный столбец, чтобы надавать пощечин своим предшественникам; он стащит их оттуда за ноги, чтобы занять их место. Наполеон был прав, надев на печать намордник. Держу пари, что оппозиционные листки, когда им удастся провести своих людей в правительство, сбросят его при помощи тех же доводов и тех же статей, какие нынче выдвигаются против короля, и это не замедлит случиться, как только новое правительство в чем-либо им откажет. Чем больше будет поблажек журналистам, тем требовательнее станут газеты. На смену журналистам-выскочкам придут журналисты голодные, нищие. Язва неисцелима, она станет еще злокачественнее, еще нестерпимее; и чем более будет угнетать зло, тем безропотнее будут его сносить до той поры, когда из-за обилия газет произойдет вавилонское столпотворение. Мы все, сколько тут нас есть, знаем, что в отсутствии чувства благодарности газеты перещеголяют королей, в спекуляциях и расчетах они перещеголяют самых грязных торгашей, и они пожрут наше дарование, принуждая нас каждое утро продавать экстракт нашего мозга; но мы все будем работать для них, как рабочие на ртутных рудниках, зная, как и они, что нас ждет смерть. Вот там, подле Корали, сидит молодой человек… Как его имя? Люсьен! Он красив, он поэт и, что для него важнее, умный человек; и что ж, он вступит в грязный притон продажной мысли, именуемый газетами, он расточит свои лучшие замыслы, иссушит мозг, развратит душу, ступит на путь анонимных низостей, которые в словесной войне заменяют военные хитрости, грабежи, поджоги и переходы в другой лагерь, по обычаю кондотьеров {131}. Когда же он, подобно тысяче других, растратит свой прекрасный талант на потребу пайщиков газеты, эти торговцы ядом предоставят ему умирать от голода, если он будет жаждать, и от жажды, если он будет голодать.
— Благодарю, — сказал Фино.
— Но, боже мой, — сказал Клод Виньон, — я все это знаю, я сам на каторге, а появление нового каторжника меня радует.
Блонде и я, мы выше таких-то и таких-то, спекулирующих на наших талантах, и тем не менее они всегда будут нас эксплуатировать. Под нашим интеллектом скрыто сердце, нам недостает жестоких свойств эксплуататора. Мы ленивы, мы созерцатели, мечтатели, ценители; развратив нашу мысль, они нас же обвинят в беспутстве!
— Я думала, что вы будете забавнее! — вскричала Флорина.
— Флорина права, — сказал Блонде, — предоставим врачевание общественных зол шарлатанам — государственным деятелям. Как говорит Шарле {132}: «Плевать в колодец? Да никогда!»
— Знаете, кого напоминает Виньон? — сказал Лусто, кивнув в сторону Люсьена. — Жирную бабу с улицы Пеликан, когда она говорит школьнику: «Милок, ты еще слишком молод, чтобы ходить сюда…»
Острота была встречена смехом, но она пришлась по душе Корали. Торговцы, слушая, пили и ели.
— Что за нация! Добро и зло мирно уживаются в ней, — сказал посланник герцогу де Реторе. — Господа, вы моты, которые не в силах промотать свои сокровища.
Итак, по милости судьбы Люсьен не мог сетовать на отсутствие предостережений на скользком пути, ведущем в бездну. Д’Артез указал поэту иной, благородный путь труда, стремился пробудить в нем чувства, сокрушающие все преграды. Сам Лусто, из эгоистических побуждений, пытался оттолкнуть его от журналистики, изображая журналистов и литераторов в истинном свете. Люсьен не желал верить в столь глубокое растление; но он слышал стенания журналистов, обнажающих свои язвы, он наблюдал, как они работают. Он видел, как они анатомируют свою кормилицу, он знал их прорицания будущего. В тот вечер мир журналистики предстал перед ним таким, каков он есть. Перед ним раскрылась вся глубина парижской растленности, столь ярко охарактеризованной Блюхером, но он не отшатнулся от страшного зрелища, он в упоении наслаждался остроумным обществом. Эти необыкновенные люди под дамасской сталью своих пороков, под сверкающим шлемом холодного анализа таили какое-то очарование и были ему милее серьезных и строгих членов Содружества. И тут он впервые познал услады богатства, он познал обаяние роскоши, власть плотских наслаждений; пробудились его прихотливые инстинкты, он впервые пил отборные вина, вкушал от изысканных яств высшей кулинарии, он встретил посланника, герцога и его танцовщицу в обществе журналистов, и оба вельможи воздавали должное их страшной власти; он чувствовал неодолимое желание владычествовать в этом мире владык, он ощущал в себе силу восторжествовать над ними. Наконец, тут была Корали, осчастливленная его небрежными словами; он изучал ее при блеске пиршественных свечей, сквозь пар от яств и туман опьянения, и она казалась ему совершенством, любовь сделала ее еще краше! И в самом деле, эта девушка была самой красивой и обворожительной парижской актрисой. Содружество, этот небосвод благородного разума, должно было померкнуть перед лицом столь сильного искушения. Тщеславие, присущее всем писателям, было польщено одобрением знатоков: Люсьена расхвалили его будущие соперники. Два таких торжества, как успех статьи и победа, одержанная над Корали, могли вскружить и не столь юную голову. Покамест шла беседа, все отлично ели и еще лучше пили. Лусто, сосед Камюзо, несколько раз тайком подливал ему в вино киршу и, подзадорив его самолюбие, уговорил пить побольше. Он так искусно все это проделал, что торговец ничего не заметил, хотя и думал, что по этой части он не менее хитер, чем журналисты. Когда были поданы сласти и пошли в ход шампанское и ликеры, остроты приняли чересчур вольный характер. Дипломат, человек искушенный, подал знак герцогу и танцовщице, лишь только услышал первые вольности, возвещавшие, что эти остроумцы дойдут и до разнузданных сцен, завершающих оргии; и все трое исчезли. Заметив, что Камюзо совсем пьян, Корали и Люсьен, которые за ужином вели себя, как влюбленные подростки, сбежали с лестницы и бросились в фиакр. Камюзо лежал под столом, и Матифа решил, что он уехал вместе с актрисой; он предоставил своим гостям курить, пить, смеяться, спорить, а сам пошел вслед за Флориной в ее спальню. Рассвет застиг врасплох сражающихся, вернее, одного Блонде, неугомонного пьяницу: он один еще в состоянии был говорить и предложил спящим тост во славу розоперстой Авроры.