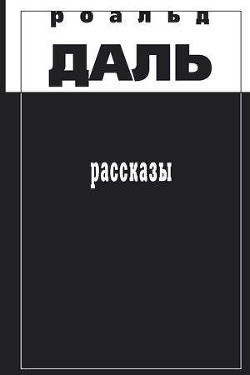Неизвестный Кафка
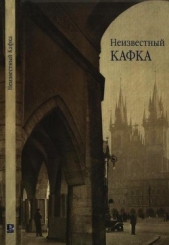
Неизвестный Кафка читать книгу онлайн
В Приложении помещены наброски к совместному с Максом Бродом роману «Рихард и Самуэль», оставшемуся неоконченным, отрывки из книги Феликса Вельча «Религия и юмор в жизни и творчестве Франца Кафки», эссе Натали Саррот «От Достоевского к Кафке» и статья графолога Ж. Монно с анализом почерка Кафки.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но есть вещи, которые могут смутить еще больше. Ведь он, если судить о нем по деталям, привлекающим его внимание (вспомним хотя бы эпизод с «чокнутой» или, в особенности, эпизод со стариком Саламано, который ненавидит и мучает свою собаку и, в то же время, с глубокой и трогательной нежностью ее любит), способен — разумеется, проявляя осмотрительность и сдержанность, но не испытывая отвращения — заглядывать в бездны. При всей «наивности» и «необдуманности», с которыми он, как говорит Морис Бланшо, раскрывает «истинную, неизменную формулу существования человека: я не думаю, мне не о чем думать», он бесконечно более искушен, чем может показаться. Например, такое оброненное им замечание: «Все разумные существа в большей или меньшей степени желают смерти тем, кого любят» — хорошо показывает, что ему случается, причем несомненно чаще, чем кому-либо, вторгаться с достаточно нетрадиционными вопросами в запретные и опасные зоны.
Возможно, именно эти, столь очевидные противоречия и вызывают у читателя то тягостное чувство, от которого невозможно отделаться на протяжении всей книги. И только в конце, когда, не в силах более сдерживаться, герой Альбера Камю чувствует, что «в нем… что-то прорвалось», и «выплескивает… все, что у него на душе», мы чувствует себя освобожденными вместе с ним: «…Казалось, я остался с пустыми руками. Но я был уверен в себе, уверен во всем… уверен в моей жизни и в той смерти, которая должна была наступить… Я был прав, я все еще был прав, я всегда был прав <…> Какое мне дело до чьих-то смертей, до материнской любви, какое мне дело до… жизни, которую выбирают, до судьбы, которую избирают, когда одна и та же, не оставляющая выбора, судьба должна постичь и меня самого, и вместе со мной миллиарды избранников… На свете нет никого, кроме избранников… И в один прекрасный день они тоже будут приговорены».
Наконец-то! Итак, свершилось. То, что мы робко предполагали, разом нашло свое подтверждение. Этот столь простой и столь страшный молодой служащий, в котором нас пригласили узнать долгожданного нового человека, в действительности оказался одним из его антиподов. Его поведение, которое временами могло напомнить упрямый негативизм обиженного ребенка, было следствием выбора, сделанного решительно и надменно, было отчаянным и трезвым отрицанием, было примером и, возможно, уроком. Его свойственное истинному интеллектуалу добровольное исступление, с которым он культивирует чистое восприятие, его вполне сознательный эгоизм — плод кое-какого трагического опыта, о котором он поведал, силой исключительной чувствительности и некоего острого и непреходящего чувства пустоты (разве он не сообщил нам, что прежде, «когда он был студентом, у него были большие амбиции», но, «будучи вынужден бросить учебу, он очень быстро понял, что все это не имеет реальной ценности»?) сближает Постороннего с Имморалистом Жида.
Таким образом, благодаря анализу, благодаря этим психологическим разъяснениям, которые Альбер Камю, во избежание множества хлопот, предпринял в самый последний момент, противоречия и неправдоподобия его книги объяснились, и чувство, к концу книги целиком овладевшее нами, оказалось оправданным.
Альбер Камю попал в положение весьма похожее на положение короля Лира, нашедшего пристанище у наименее облагодетельствованной из своих дочерей. Тому «психологизму», который он тщательной прополкой старался искоренить и который, как сорняк, снова везде прорастал, он в конечном счете обязан своим спасением.
Но как бы ни были мы умиротворены, закрыв книгу, нам не удается избежать чувства некоторой злости на автора: мы сердиты на него, он слишком долго заставлял нас блуждать. То, как он ведет себя по отношению к своему герою, вынуждает нас несколько чаще, чем хотелось бы, вспоминать о мамашах, одевающих своих рослых — и уже взрослых — дочек в слишком коротенькие юбочки. В подобной неравной борьбе психологизм, как и природа, вновь одерживает верх.
Но, может быть, Альбер Камю, наоборот, старался доказать нам от противного, что в нашем климате невозможно обойтись без психологии. Если именно таково было его намерение, он в нем вполне преуспел.
Хорошо, скажут мне, но причем тут Кафка? Кто станет утверждать, что и для него homo absurdus тоже не более чем мираж? Кафка не занимает никакой сознательно выбранной позиции, не тревожит себя никакими дидактическими заборами, не примыкает ни к одной из партий. Ему нет необходимости предаваться какой-то прополке, она невозможна: на тех голых землях, куда он нас за собой увлекает, не может вырасти ни травинки.
И все же нет ничего более произвольного, чем противопоставлять его, как это часто сегодня делают, тому, кто был если не его учителем, то, во всяком случае, его предшественником, так же как он является предшественником почти всех европейских писателей нашего времени — не важно, знают они об этом или нет. По этим обширным территориям, к которым Достоевский открыл подходы, Кафка проложил дорогу — единственную узкую и длинную дорогу; он провел ее только в одном направлении и прошел по ней до конца. Чтобы убедиться в этом, мы на несколько мгновений должны вернуться назад и, преодолевая отвращение, окунуться в самую густую душевную муть. В келье преподобного старца Зосимы при большом стечении публики выступает на сцену и представляется старик Карамазов: «Вы видите пред собою шуга, шута воистину! Так и рекомендуюсь. Старая привычка, увы!» — он кривляется, он ломается, нечто вроде пляски Святого Витта искажает все его движения, он принимает гротескные позы, с жестокой и язвительной трезвостью он описывает унизительные положения, в которые ставил себя, он употребляет в речи те одновременно смиренные и агрессивные уменьшительные формы, те слащавые и едкие словечки, которые любят столь многие персонажи Достоевского, он бесстыдно лжет и, пойманный с поличным, ничуть не смущается… Его никогда нельзя застать врасплох, он себя знает: «Представьте, ведь я и это знал… и даже, знаете, предчувствовал…, только что стал говорить, и даже, знаете, предчувствовал [так как ему бывали странные предзнаменования], что вы мне первый это и заметите». Он унижается еще больше, словно зная, что этим унижает, бесчестит вместе с собой и остальных; он насмехается, он признается: «сам сейчас присочинил, вот сию только минуточку, вот как рассказывал… Для пикантности присочинил» — ибо, подобно больному, постоянно занятому выслеживанием в себе симптомов своей болезни, опрокидывающему взгляд в самого себя, он себя прощупывает, он шпионит за собой. Он лезет из кожи вон для того, чтобы ублажить окружающих, чтобы снискать их благоволение, чтобы их обезоружить: «Для того и ломаюсь…, чтобы милее быть. А впрочем, и сам не знаю иногда для чего». И когда он крутится таким вот волчком, невольно вспоминаются те клоуны, которые, не переставая кувыркаться, сбрасывают с себя, одну за другой, все свои одежки: «не спорю, что и дух нечистый, может, во мне заключается» — он снова ползает, извиваясь: «небольшого, впрочем, калибра, поважнее-то другую бы квартиру выбрал», — но тут же распрямляется и жалит: «только не вашу… и вы ведь квартира неважная». Старец попытался его успокоить: «„Убедительно и вас прошу не беспокоиться, не стесняться… будьте совершенно как дома. А главное [ибо и он, и он тоже без тени негодования или отвращения исследует эту мутную гущу, которая кипит и переливается через край], не стыдитесь столь самого себя, ибо от сего лишь все и выходит“. — „Совершенно как дома? То есть в натуральном-то виде? О, этого много, слишком много… до натурального вида я и сам не дойду“» — и, отпустив непристойную и мальчишескую шутку, тут же вновь становится серьезен; старец верно понял его — он кривляется для того, чтобы не только соответствовать мнению, которое о нем сложилось, но чтобы еще и всех в этом мнении перещеголять: «мне все так и кажется, когда я к людям вхожу… что меня все за шута принимают, так вот „давай же я и в самом деле сыграю шута… потому что все вы до единого подлее меня“! Вот поэтому я и шут, от стыда шут, старец великий, от стыда». Мгновение спустя он падает на колени и — «трудно было и теперь решить: шутит он или в самом деле в таком умилении?» «Учитель!., что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Старец чуть придвинулся к нему [25]: «Главное, самому себе не лгите… Лгущий себе самому… самый первый обижается, обижается до приятности, до ощущения большого удовольствия…» Будучи искушенным знатоком, старый Карамазов способен это оценить: «Именно, именно я-то всю жизнь и обижался до приятности, для эстетики обижался, ибо не токмо приятно, но и красиво иной раз обиженным быть, — вот что вы забыли, великий старец: красиво!» Подпрыгивая, он делает еще оборот и сбрасывает еще один клоунский наряд: «Вы думаете, что я всегда так лгу и шутов изображаю? Знайте же, что это я… чтобы вас испробовать, так представлялся. Это я… вас ощупывал… Моему-то смирению есть ли при вашей гордости место?..»