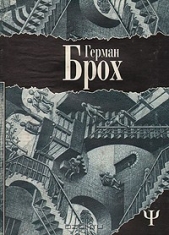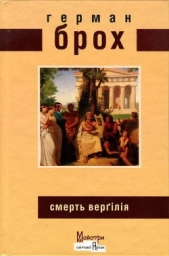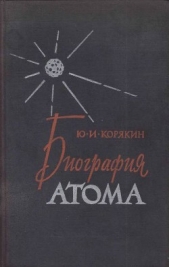Избранное (Невиновные. Смерть Вергилия)
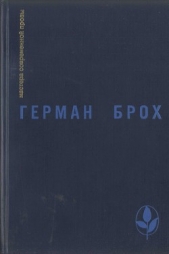
Избранное (Невиновные. Смерть Вергилия) читать книгу онлайн
Г. Брох — выдающийся австрийский прозаик XX века, замечательный художник, мастер слова. В настоящий том входят самый значительный, программный роман писателя «Смерть Вергилия» и роман в новеллах «Невиновные», направленный против тупого тевтонства и нацизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
От насилия не спастись! Сейчас на палящем солнце вся эта чертовщина закружится, прихрамывая, в хороводе без теней, в который ее тотчас же поведет преследователь, по-лакейски хромая, с лакейским поклоном, — и не спастись от его соблазняющего насилия.
А между тем чужестранная чета, все еще четвероногая, достигла церковных ступеней, и вот теперь, все еще с раскрытым бедекером в руках, оба даже вознамерились проникнуть во двор. Может быть, это уже и неважно; пусть случится, пусть люди обнаружат тайну и позор, увидят победившего преследователя; конечно, это неважно, потому что нет больше тени, нет даже во дворе, где он стоял и повелевал, этот человек, хоть и низкого происхождения, но высоко, как памятник, вознесшийся посреди двора. И, может быть, чтобы защитить преследователя, чьей жертвой и сожительницей, готовой к колдовским превращениям, она отныне и навеки должна стать, может быть, чтобы бежать вместе с ним, пока не поздно, а может быть, чтобы спрятать его где-нибудь в шкафу, незаметно для обоих чужеземцев, с огромным напряжением она отделилась от стены и побрела во двор: но — о разочарование и облегчение — двор был тенист и пуст, каким она его и оставила, а воробей все еще сидел на плитах. Стены окружали строгий и прохладный четырехугольник как бы отрадно-светлое затмение дня, — и для человека низшего сословия, или коммуниста, или еще кого-нибудь в этом роде здесь не было места. Двор был чертовски пуст.
Тогда барышня осмелилась еще раз оглянуться на площадь — и она была чертовски пуста. Потому что никто не плясал. Вяло повис вверху флаг на древке, и насилие отменялось, может быть, только отодвигалось, но на сегодня, определенно, отменялось. Какая-то смесь сожаления и злорадства поднялась в душе барышни. Правда, холодная красота минувшего мира и его творений опять, возможно в последний раз, победила и оставила в круглых дураках хромых демонов из плебеев и все их безобразие. Прекрасным большим овалом простиралась замковая площадь у подножия зданий, выступающих вперед в своей степенной неспешности, и теперь, когда происшествие завершилось, отражала окружность неба и мирный его покой; теперь тени башен едва достигали малого овала памятника, на трех ногах стояла лошадь курфюрста в прекрасной недвижности, на трех ногах стоял штатив фотографа, и, окаймленные прямыми, как стрела, черными тенями, тянулись по склону холма аллеи парка под сводами светло-голубого купола, по которому медленно скользили перистые облака, — чистота, которая ложится новым слоем на грязь.
Из церкви звучал хорал. И барышня, исполненная преданности, пересекла маленький дворик и вошла в церковь через ту самую дверь, через которую прежде торжественно свершала свой выход в божий храм семья великого герцога и через которую отныне, так велит господь, всегда будет входить она. Ни одной половине барышнина сердца не было больше нужды говорить с другой его половиной — в таком согласии друг с другом они пребывали, — полная сладостной безнадежности, барышня едва ли была в состоянии думать о себе: она открыла псалтырь — и впрямь святая.
СМЕРТЬ ВЕРГИЛИЯ
Роман
IN MEMORIAM STEPHEN HUDSON [30]
…fato profugus…
TOD DES VERGIL
1945

ВОДА — ПРИБЫТИЕ
© Перевод Ю. Архипов
Голубовато-серые, легкие, тихим, едва внятным встречным ветром гонимые, катились адриатические волны навстречу эскадре императора, когда та, медленно надвигаясь левым бортом на пологие холмы Калабрии, направлялась к порту Брундизию; и теперь, когда залитое солнцем и все же тронутое дыханием смерти одиночество моря постепенно сменялось мирной радостью людской суеты, теперь, когда воды, смиренные и позлащенные близостью людского житья-бытья, покрылись многочисленными судами, тоже плывущими в гавань или вышедшими оттуда, а рыбацкие лодки под коричневыми парусами, покинув для вечерней ловли крохотные молы, прилепившиеся к частоколу селеньиц и деревень, уже отделились от белой прибрежной каймы, — теперь вода стала гладкой, почти как зеркало; перламутровая раскрылась над нею раковина неба, вечерело, и порой чудился над водой дым костров, доносимый, навеваемый с пастбищ вместе со звуками жизни на берегу: то звяк железа о наковальню, то крик.
Из семи кораблей с высокими бортами, шедших друг за другом кильватерной колонной, лишь первый и последний стройные пентеры с тараном на носу — принадлежали военному флоту; остальные же пять, куда более громоздкие и внушительные, в десять и двенадцать рядов весел, были построены с роскошью, приличествующей обыкновениям императорского двора, а на среднем в колонне, великолепнейшем — златосверкающий бронзовый буг, златосверкающие львиные головки с кольцами в пасти, пестрые вымпелы на вантах, — под пурпурными парусами величественно возвышалась парадная палатка Цезаря. А на следующем за Августовым корабле находился творец «Энеиды», и печать смерти лежала на его челе.
Терзаемый морской болезнью, весь в напряженном и опасливом ожидании очередного ее прилива, он целый день не решался и шевельнуться, так и лежал, прикованный к своему ложу, устроенному для него в самой середине корабля, ощущая себя, вернее, свое тело и свою телесную жизнь, которую давно уже воспринимал как чужую, ощущая всего себя как одно осторожное, ощупывающее воспоминание о том расслабленном покое, который и впрямь внезапно объял его, едва корабль вошел в тихие прибрежные воды; раствориться в потоке этой мирволящей и умиротворенной, усталой неги было бы совершенным счастьем, если б не донимал его вновь нажитый вопреки целительному морскому воздуху кашель, если б не трепала его ежевечерняя лихорадка, как и ежевечерние страхи. Так он и лежал теперь здесь, он, творец «Энеиды», он, Публий Вергилий Марон, лежал с приугасшим сознанием, почти стыдясь своей беспомощности, почти гневаясь на судьбу; лежал, вперяясь взором в перламутровый овал небесной чаши: о, зачем только уступил он домоганиям Августа? Зачем покинул Афины? Теперь прощай последняя надежда на то, что священно-ясное небо Гомера споспешествует благополучному завершению «Энеиды», прощай надежда на то новое в его жизни, что могло бы за этим воспоследовать, надежда на далекую от искусства и свободную от поэзии жизнь философа и ученого в граде Платона, надежда на то, что удастся когда-нибудь снова ступить на ионийскую землю, а вместе прощай надежда на чудо и целительность познания. Почему же отказался он от всего этого? Добровольно ли? О нет! То был словно приказ неотвратимых сил жизни, тех неотвратимых сил судьбы, кои никогда не исчезают совсем, пусть и прячутся они временами в подземном, незримом, неслышном, но они неотступны, как неисследимая угроза сил, от которых никуда не уйдешь, которым нельзя не подчиниться на то и судьба. Он предался судьбе, а судьба предала его гибели. Разве то не была его форма жизни? Разве жил он когда-нибудь иначе? Перламутровая чаша неба, и вешнее море, и пение гор, и та песнь, что болью полнила грудь, божественные звуки флейты — разве не было все это лишь оболочкой тех сфер, что скоро примут его и отнесут в вечность? Он был по рождению земледельцем, любил мирный земной удел, ему более всего подошла бы простая и степенная жизнь в сельской общине, ему на роду было написано оставаться в этой неизменности, он мог и должен был остаться, но высшее провидение, не отрывая его от родины вполне, все же и не оставило его в ней, все же вытеснило прочь из общины, вытеснило в самое голое, самое злое, самое страшное одиночество одиночество в людской толпе; судьба погнала его прочь от простоты истока, погнала вдаль, где все больше множилась всякая сложность, и выросло, увеличилось в этой гонке лишь расстояние от жизни в собственном смысле, да, да, выросло лишь оно, это расстояние, ибо жил он на самом краю жизни, на краю своих нив, и всегда оставался непоседлив, беспокоен, бежал смерти и смерти искал, искал трудов и трудов бежал; любящий и все же гонимый, вечный скиталец на страстных путях плоти и духа, гость на пиру своей жизни. И теперь, когда силы почти иссякли, на исходе бегства, на исходе поисков, когда уже завершил он борьбу и приуготовился к прощанию, приуготовился к последнему одиночеству, готов был вернуть одиночеству свою душу, теперь судьба вновь его одолела, вновь отказала и в простоте, и в сокровенности истока, вновь повернула его с пути к себе, подтолкнув к пестроте внешней жизни, вновь навязала ему то зло, что тенью лежало на всей его жизни, и казалось, будто судьба приберегала для него одну лишь единственную простоту — простоту смерти. Он слушал скрип рей в снастях и мягкий шорох парусов, слушал шепот пенящейся за кормою воды и серебряный звон брызг, извлекаемых веслами, которые то тяжко стонали, ворочаясь в уключинах, то снова с плеском шлепались в воду; он чувствовал равномерные, мягкие рывки корабля в такт взмахам сотен весел, он следил за скольжением белой прибрежной каймы и думал о немотствующих, закованных в цепи рабах там, в утробе корабля, где царили духота, и сквозняк, и вонь, и грохот. Те же ритмичные, глухо рокочущие, всплескивающие серебро взмахи весел слышались сзади и спереди, на соседних кораблях, эти звуки словно бы разносились эхом по всем морям, и отовсюду приходил отклик, ибо на всех морях плавали такие же корабли, груженные ли людьми, груженные ли оружием, груженные ли рожью и пшеницей, груженные ли мрамором, маслами, вином, специями, шелком, груженные ли рабами, — повсюду купля-продажа, эта злейшая из корчей и порчей мира сего, пользовалась судоходством. Тут, однако ж, везли не товары, а утробы, то бишь придворных; вся кормовая часть корабля была отдана пропитанию, с раннего утра там не смолкал шум застолья; вот и теперь еще трапезная была густо облеплена вожделеющими угодить своему чреву, улучающими миг, когда освободится местечко за триклинием, готовыми захватить его в борьбе с соперниками, также изнемогающими от желания наконец-то возлечь у стола, чтобы впервые или уже не впервые в этот день отдаться блаженной смене блюд; сбивались с ног легконогие, принаряженные слуги, среди которых было немало смазливых, теперь, правда, все они были как взмыленные, загнанные лошади, а их вечно улыбающийся начальник с настороженным холодком в уголках глаз и ненавязчиво растопыренными навстречу чаевым руками все гонял и гонял их туда-сюда, да и сам сновал как челнок с палубы и на палубу, ибо наряду с теми, кто возлежал, не меньше хлопот, как ни странно, доставляли и те, кто уже насытился и теперь искал развлечений иного рода: иные прогуливались, сложив руки на животе или его противоположности, иные, напротив того, дискутировали, размахивая руками, иные подремывали или похрапывали на своих ложах, прикрыв лицо тогой, иные посиживали, меча кости, и всех их тоже нужно было опекать и обслуживать, то и дело потчевать легкими закусками на серебряных подносах, передававшихся из рук в руки по всей палубе, дабы не пропустить рождение нового глада, дабы вовремя потрафить страсти обжорства, явственно и неистребимо отпечатавшейся на лицах всех — как упитанных, так и тощих, как слоняющихся, так и сидящих, как бодрствующих, так и спящих; эта страсть могла быть выбита резцом или вылеплена, как из глины, могла быть острой или мягкой, хищной или благодушной, волчьей, лисьей, кошачьей, попугайной, лошадиной, акульей, но она неизменно оказывалась как-то связана с другой, не менее плотоядной и омерзительной страстью — ненасытимой жаждой обладания, жаждой вещей, денег, чинов, почестей, жаждой того чувства праздной занятости, которое дает имущество. Всюду, куда ни глянь, кто-нибудь совал себе что-нибудь в рот, всюду пылала алчная жадность, не ведающая ни конца, ни начала, как петля, готовая все, весь мир захлестнуть, ее, этой жадности, чад витал тут над палубой, ее, эту жадность — неотменимую, неизбывную, — тоже везли с собой в ритме весельных взмахов: ею был объят весь корабль. О, стоило бы однажды изобразить их во всей красе! Песнь жадности — вот что надобно им посвятить! Да, но что толку? Ведь поэт ни на что не годен, ни в какой беде он не помощник, и слушают его лишь тогда, когда он мир приукрашивает, отнюдь не тогда, когда он изображает мир таким, каков он есть. Ложь, а не истина дает славу! И возможно ли в таком случае надеяться, чтобы «Энеиде» была уготована иная, лучшая участь? Да, ее будут превозносить, как превозносили все, что он писал до сих пор, но вычитают из нее одно лишь желанное, нельзя ни надеяться, ни опасаться, что остережения его будут услышаны; нет, не дано ему было обмазываться или верить обману, слишком хорошо он знал эту публику, столь же мало удостаивающую вниманием настоящий, тяжкий, ценой страдания обретающий истину труд поэта, как и горький, горьким потом политый труд рабов на галерах; и то и другое было для этой публики лишь положенной, положением вмененной данью тому, кто имел право наслаждаться и кто воспринимал и принимал это именно как дань! А ведь среди жующих и жрущих тут были не одни лишь бездельники, хотя и этот сорт людей Август терпел в своей свите, нет, многие из них имели на счету всяческие заслуги, но с каким наслаждением они отбросили здесь, на корабле, все прочие свои качества, чтобы в часы вынужденного путешествием безделья предстать во всей первозданной наготе своего слепого высокомерия и своей темной жадности или жадностью заполненной темной сути. Внизу, в утробной тьме, рывок нанизывая на рывок, в диком, зверином, нечеловеческом своем великолепии работала закованная в цепи масса гребцов. Те, там внизу, не понимали его, и не было им до него дела, эти, тут наверху, утверждали, что почитают его, да они и сами верили в это, обманывая себя кто ради того, чтобы, выпятив любовь к его произведениям, похвастать своим вкусом, кто потому, что другу Цезаря полагались признательные воздаяния, — хотя что же общего могло быть с ними у него, Публия Вергилия Марона, ведь они, даром что судьба поместила его в их круг, внушали ему омерзение, и его давно бы вновь смял приступ болезни, если б смрад и чад на корабле, где предавались они обжорству, не развеивал прибрежный бриз, предвестник заката. Убедившись в том, что сундук с рукописью «Энеиды» стоял целехонек у его ложа, он, не отрывая глаз от закатывающегося на западе светила, натянул плащ до подбородка; ему стало зябко.