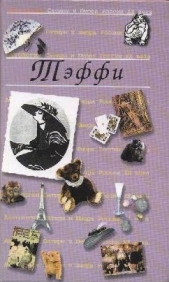Взгляд сквозь столетия

Взгляд сквозь столетия читать книгу онлайн
Русская фантастика имеет многолетние исторические традиции. Вошедшие в сборник произведения известных писателей-фантастов XVIII и первой половины XIX века — Радищева, Одоевского, Кюхельбекера и других — создавались на основе существовавших в то время представлений об окружающем мире и перспективах его развития, особенно прогрессивных общественно-политических учений и взглядов, и наследовали давние традиции, отразившиеся в древнерусской литературе, сказаниях и легендах. Эта очень своеобразная, яркая и малоизученная страница истории русской культуры представляет несомненный интерес для современного читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Те обвинения, которые офирцы предъявляли своему императору (в частности, по вопросу о местоположении столицы государства), Щербатов прямо от своего имени высказывал в многочисленных статьях о Петре, в известном «Прошении Москвы о забвении ее», написанном в форме письма к Екатерине II.
В утопической Офирии в отличие от реальной России политический перелом к допетровским формам государственного существования не заставил себя ждать: страна вернулась к самобытным началам, столица переехала обратно в Квамо, общество стало жить по новым, идеальным, с точки зрения Щербатова, законам. Реформы, если они и проводились, строго соответствовали этим законам, были постепенны и разумны. Одна из главных забот офирцев — планомерное созидание собственного благоденствия: в стране развиваются ремесла, торговля, строятся новые города.
«Здравый утопизм» Щербатова в экономических вопросах историки давно уже сопоставляют с «градостроительной горячкой», охватившей правительство и внушенной планом создать из русского мещанства «третье сословие» на западноевропейский манер.
Вот, например, отрывок из «плана» Екатеринослава, представленного Потемкиным. В городе должны быть построены: «…храм великолепный, судилище наподобие древних базилик, лавки полукружием… пропилей с биржею и театром посредине, фабрика суконная и шелковая, губернаторский дом во вкусе прелестных греческих зданий, университет купно с академией музыкальной…»
По мнению автора проекта, «жители потекут сюда во множестве с избытками своими… и многие, увидев знаменитость нового города, возжелают учиниться жителями его». Но на деле происходило иное: города, построенные по потемкинским проектам, должны были заселяться «огородниками», перевезенными административным порядком из других мест обширной России.
Утопия Щербатова в своей «идеальной» части содержит и много других намеков на «государственный утопизм» времен екатерининского правления. Сцена несложных приготовлений офирцев к встрече своего императора — явная параллель к знаменитому крымскому путешествию Екатерины («потемкинские» деревни и т. п.); мирная внешняя политика офирских правителей контрастна многочисленным военным предприятиям «славолюбивой» государыни (ср. с описанием русско-турецкой войны в «Новейшем путешествии» Левшина).
Но в полном соответствии со «специфически свирепым» утопизмом реакционных правителей России Офирское государство — это своего рода диктатура добродетели, которая определяет все офирское общество; от солдата до императора, носящего титул «блистательный в добродетели».
От эстетики, требующей простоты украшений и «весьма нехорошей музыки», до добродетельных законов, жестоко карающих ослушание. Щербатов — убежденный государственник, сторонник сильной, но справедливой, по его классовому пониманию, власти, устраняющей деспотизм главы государства и подставляющей на его место деспотизм самого государства, «идеальность» которого служит порукой должного развития.
«Полицейская» государственность Офирской земли является щербатовским методом «каждодневного управления страной». Он предлагает, например, проект военных поселений для экономического и политического стимула к укреплению государственной власти. Одним словом, консервативный характер утопии безусловен. Показательно в этом смысле, что идея военных поселений найдет свое реальное воплощение именно во времена правления реакционного «прожектёра» и «утописта» Александра I.
Платон, как известно, изгнал поэтов из своего идеального государства. «Поэзия пробуждает, питает и укрепляет худшую сторону души и губит ее разумное начало», — говорит в «Государстве» Сократ. То же самое повторил Руссо. «Наши души развращались, — писал он, — по мере того, как совершенствовались искусства и науки».
Нарсим из утопии В. Левшина встречает на Луне общество, живущее по трудам Руссо. Добродетельный старец Фролагий разъясняет путешественнику: «У нас не приобретающий руками своими пищи считается ненужною тягостию для земли». Ослушники с «патриархальной» простотой наказываются лишением пищи, «чтобы через то он опомнился и голод бы уверил его, какая разница орать (т. е. пахать) землю или терять время на ненужные выдумки».
В одной из своих статей Гоголь говорит о поэте как об идеале будущего развития человека. Имя поэта названо — Пушкин. «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русской человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет».
Таковы колебания человеческой мысли при решении вопроса о месте поэта и поэзии в жизни общества. В XIX веке проблема приобретает характер уже не отвлеченного построения, как у Платона и Руссо: самое духовное ее содержание ставится под сомнение ходом исторического процесса. Она превращается в антитезу духовного и бездуховного, на полюсе, противоположном поэзии, все более вырастает буржуазный меркантилизм и торгашество, идеалом человечества грозит стать бездушный предприниматель.
Так начал свое знаменитое стихотворение «Последний поэт» Е. Баратынский. Жанр этого произведения — социальная фантастика, тема — взаимоотношения искусства и общества.
Перед нами разворачивается своеобразный эксперимент-предвиденье, эксперимент-предупреждение. Цель этого эксперимента — доказать мысль о губительности для творчества буржуазной цивилизации.
«Последний поэт» приходит на Землю и оказывается ненужным, ибо человечество подчинилось холодной «богине измерения» — Урании. Поэт погибает.
В этом стихотворении Баратынского присутствуют как бы в прообразе темы и даже сюжеты многих будущих фантастических произведений русских писателей. Пожалуй, впервые в истории поэту в превосходных стихах было суждено усомниться в вечной необходимости своего дела, предположить, что пути искусства и человечества могут разойтись. Прежде это было уделом только философов: «искони наблюдался какой-то разлад между философией и поэзией», — свидетельствует Платон. Из старших современников Баратынского к этой мысли, как известно, постоянно обращался Гегель, полагавший, что в будущем поэзия должна будет окончательно уступить место философии. Сомнение в вечной необходимости поэзии проникает и в пушкинский «Памятник». Образ «последнего поэта» есть и в нем. Вспомните: «И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит».
Такие сомнения как нельзя более отвечали духу эпохи, духу 30-х годов XIX века.
Мы уже говорили о «кризисности сознания» тех лет — времени после восстания декабристов. Этот кризис усугублялся тем, что в литературу, поэзию властно вторгались буржуазные отношения, отношения купли-продажи, когда «книгопродавец», по словам С. П. Шевырева в статье «Словесность и торговля», имеет право смотреть на литераторов как на «пишущие машины».
Эту мрачную метафору — «пишущие машины», словно бы буквально реализует Одоевский в своем «техническом проекте»: «Машина для романов и для отечественной драмы» или в другом фантастическом образе: «Изобретение книги, в которой посредством машины изменяются буквы в несколько книг». Таким образом, для Одоевского в будущем также небезусловна необходимость поэзии, искусства. Он прекрасно помнит Платона, помнит убедительность его доводов и потому пишет: «Увеличившееся чувство любви к человечеству достигает до того, что люди не могут видеть трагедий и удивляются, как мы могли любоваться видом нравственных несчастий, точно так же, как мы не можем постигнуть удовольствия древних смотреть на гладиаторов».