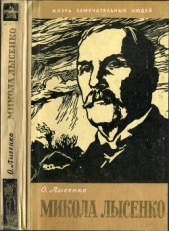Повести рассказы. Стихотворения. Поэмы. Драмы

Повести рассказы. Стихотворения. Поэмы. Драмы читать книгу онлайн
В издание вошли повести и рассказы известного украинского писателя М. Коцюбинского: «На камне», «В грешный мир», «Смех», «Он идет», «Неизвестный», «Что записано в книгу жизни», «Тени забитых предков» и др., а также стихотворения, поэмы («Старая сказка», «Вила-посестра», «Изольда Белорукая») и драмы Леси Украинки («В катакомбах», «Лесная песня», «Каменный хозяин», «Оргия»).
Михаил Коцюбинский и Леся Украинка были художниками разных жанров: Коцюбинский по преимуществу прозаик, мастер психологической новеллы, Леся Украинка - прежде всего лирик и драматург, автор драматических поэм. Но вместе с тем между этими двумя писателями есть много общего; единомыслие и родство идей привели их в широкое русло украинского демократического движения.
Вступительная статья, составление и примечания Александра Дейча.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Откуда идет тишина – от меня или входит в меня? Не знаю. Дремлют скалы, и черные зонты пиний застыли в тишине. Кажется,- мы все растворились в ней. Опуститься бы на камни и вот так же пить солнце, как и они, так же купать сбой взор в небе. Приятно было бы дремать, подобно террасам, каменным корзинам виноградных садов! Стать вот такой жилистой лозой, как будто ввинченной глубоко в землю, и тянуть оттуда золотистый сок, чтобы налить им гроздья.
Солнце бродит среди инкрустации теней – черной по золотому,- и я слышу тихий ропот голого винограда, ответные вздохи земли и вижу жилистые руки, подобные лозам, бронзовые лица, которые нагибаются то и дело, а порой бросают мне сердечное золото приветствия:
– Добрый день… добрый день…
Перегибаюсь через стену и смеюсь ребенку. Он кудрявый, с грязным носом, на солнце золотятся голые коленки, и, посасывая померанец, он улыбается мне.
Ах, как хорошо собирать улыбки и отдавать их другим!…
Я люблю свою комнату. Белую, словно снегурочка, с букетом ирисов на столе и с Боттичелли на стенах. Но наибольшую радость доставляет мне окно. Целый день в него глядит море. От восхода до захода солнца голубеют в моей комнате стекла, как глаза моря.
Теперь не то.
Как они горько плачут сегодня, беловато-мутные, ослепшие, привыкшие видеть красоту синего моря! Померкли мои стены и мебель, расплылся Боттичелли, а по бельмам стекол беспрестанно текут слезы.
Ощущаю беспокойство. Кто знает – отчего? Беспрестанно встаю, хожу по комнате и опять тяжело сажусь. Мне тесно в моей одежде, неудобно в стенах дома. Глухая тревога стучится в сердце, словно хочет туда войти. Перекладываю все на столе, без надобности передвигаю книжки и раздражаюсь, что потерялся карандаш. Где карандаш? Ощупал стол, разворошил бумагу, перемешал книги. Кто взял карандаш? Знаю, что он мне не нужен, этот куцый огрызок, но знаю, что от того, найду ли карандаш, зависит мой покой.
Стекла все так же рыдают.
Все, чего ни коснутся мои руки, влажное, дряблое или липкое. Все насытил своим дыханием сирокко. Отяжелела одежда, отсырел табак, и страницы книг будто вышли из бани. Где же карандаш?… Ага! Вот он, негодный… И швырнул его так, что он сломался.
Что творится там, за окном? Тревога своего добилась. Мечусь по комнате, как шмель на окне, и чувствую потребность переставить мебель, передвинуть шкафы, стол, стулья – все по-новому, все иначе; раздвинуть стены или совсем их обрушить…
Что творится там, за окном? Не успел распахнуть, как теплый сирокко кладет мокрую лапу мне на лицо и наполняет влажным дыханием всю комнату. У меня ли на глазах бельма, или в самом деле ничего не видно? Серые воды густо плывут с серого неба на посеревшую землю. Они уже смыли все краски, полиняло море, скалы, деревья. Monte Solaro плавает тенью в мутных просторах, a Castiglione – как привидение: показалось и исчезло. И все постепенно исчезает: море, скалы, земля. Только из ниоткуда густо стремятся в никуда серые небесные воды и тяжело дышит сирокко.
Затворяю окно и в отчаянии сажусь за стол.
Степьт погасли, расплылся Боттичелли, по бельмам стекол стекают слезы, и меня охватывает желание раствориться тенью.
Не пойти ли в город? Еще издали с радостью замечаю розовые плиты городской площади, желтые стены funicolare и башню. Никому не известный, сажусь на скамью, слушаю и удивляюсь. Сквозь белые колонны синеет море, по Monte Solaro ползет туман. Подо мной с подземным гуденьем движется на берег вагон.
На башне бьют часы: три раза тонко и десять басисто.
Проходят люди, вперед и назад. Какие-то черные фигуры, матовые лица и красная гвоздика в петлице. Сошлись в кучку, потом цепочкой оперлись на барьер, словно галки на телеграфной проволоке.
Толстый портье, неуклюжий, как слон, и паралитик, будто врос в желтую стену. Его кротовые руки лежат на коленях. Вот он тяжело поднялся и переставил стулья, которые сдает внаймы желающим. Концы плетенки торчат в них из-под сиденья. Мой парикмахер, сдвинув на затылок котелок, со скучающим видом – так изо дня в день – разглядывает витрину электрических приборов. Стоит долго, упорно, как изо дня в день, зевает и отходит.
На башне бьет одиннадцать.
Худощавые молодцы из отелей, с галунами и в новеньких костюмах, пока нет парохода, постукивают каблуками по розовым плитам. «Hôtel Royal» толкнул «Hôtel Pagano». «Hôtel Faraglioni» закурил папироску.
Согнувшись и налегая на толстую палку, портье шаркает ногами, подает кому-то стул.
Жалкий щеголь подпер плечом белую колонну. Потрепанные штаны, порыжевший пиджак – все бесцветно. Словно он долго валялся в известковой яме. Креп на рукаве, а из бокового кармашка торчит кончик розового платка.
Снова вечность отбивает пятнадцать минут.
Взад и вперед снуют черные фигуры.
Море шумит.
Желтые спинки фиакров, стоящих в ряд, блестят на солнце.
По Monte Solaro ползет седой туман.
Парикмахера снова привлекает витрина. Котелок съехал на шею, а он упорно разглядывает электрические принадлежности, как и ежедневно.
Голубые факкино (носильщики) в широких блузах расхаживают, заложив руки в карманы: еще нет парохода.
Старик портье зевает истерически, словно осел. Короткие, как у крота, руки лежат на коленях.
Проходят американки. Безобразные, худые, широкоротые, все в белых вязаных куртках и в желтых туфлях.
– Shall we have time before breakfast? [44]
– 0, yes!… [45]
Холодные глаза скользнули по всему, словно льдинки.
Дети гоняют по piazz’e собаку. Собака скачет и попадает кому-то под ноги.
Из-за белых колонн выплывает пароход – две голые мачты и черная труба.
Скучающие люди сбились в кучку и перегнулись через барьер. Всем интересно.
Дымок от папироски вьется в воздухе.
На башне часы отбивают еще раз.
В море всплывают и тотчас исчезают пенистые волны,
словно утопают рыбацкие челны, погружаясь в воду белым парусом.
Полицейский в черном плаще – щеки синие и нос красный – сонно машет прутиком в воздухе и, может быть, в тысячный раз поглядывает на эти дома.
Купы белого, словно лысого, кокорника расстилают зеленую листву под навесом магазина.
Портье накрепко врос в желтую стену.
Прошли две девушки, полногрудые, с красными платками на плечах.
Осел с грохотом огромных колес привозит на piazz’y полную повозку капусты, а толстая женщина, подергиваясь, делая непринужденные движения, какие бывают только у рыбы в воде, что-то выкрикивает.
Подо мной с подземным гулом проползает снизу вагон, и появляются в дверях пышные жандармы в треуголках, с плюмажами и с густым серебром иа мундирах.
Первый извозчик примчал пассажиров: молодцы из отелей налетают на него, как воробьи.
Женщины-носильщики поднимают на головы чемоданы из желтой кожи.
Свободный факкино поет.
По Monte Solaro ползет седой туман.
Копи фиакров бьют подковами о камень.
Портье жует что-то, и его полное лицо ходит над жирным подбородком, будто плавает на волнах.
За проливом сизый Везувий придавил берег, словно смертный грех.
Возвращаются обратно полногрудые девушки.
На башне пробило двенадцать.
Люди снуют во все стороны – кто знает, куда и зачем, а все это похоже на театр марионеток, в котором режиссер перепутал порядок пьесы.
Не так ли и в жизни?
В отелях глухо гудят гонги, сзывая на завтрак. Площадь постепенно пустеет. Остаются только розовые плиты мостовой да колонны белеют на фоне синего моря.
На Monte Solaro медленно вползает туман…
Я каждый день прохожу мимо пустынного, заброшенного сада. Две-три зеленые террасы и группа олив. Больше ничего. Внизу горят травы собственным огнем, над ними поблескивают серебром седые кроны.
Мимо проходят люди, топает по тропинке осел, а садик одинок, запущенный и позабытый, и лишь прохожие скользят глазами по немятым травам да солнце ходит вокруг, передвигая тени. Вот они мягко разостлались, такие же фантастические и кривобокие, как оливы, будто отразились в воде.