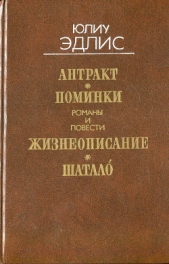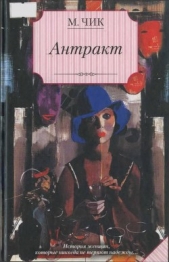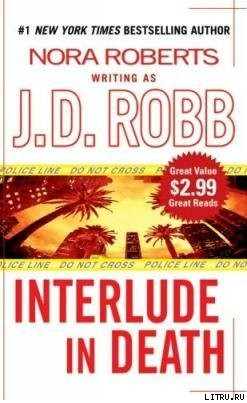Антракт: Романы и повести

Антракт: Романы и повести читать книгу онлайн
При всем различии сюжетов, персонажей, среды, стилистики романы «Антракт», «Поминки» и повести «Жизнеописание» и «Шатал?» в известном смысле представляют собою повествование, объединенное неким «единством места, времени и действия»: их общая задача — исследование судеб поколения, чья молодость пришлась на шестидесятые годы, оставившие глубокий след в недавней истории нашей страны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ему захотелось прохладного, терпко пощипывающего небо вина, свежей зелени, кисловатого тушинского сыра, хрупко лопающейся на зубах редиски… Он вспомнил, где это наверняка найдет — в том погребке на Пушкинской улице, где всегда, даже в самую жестокую жару, не душно и вино всегда холодное и свежая закуска.
Погребок в те времена назывался „Симпатия“, едва ли его переименовали, он был одной из тогдашних достопримечательностей города. Длинный и узкий подвал — по одному ряду столов вдоль каждой стены, — в который вела крутая каменная лестница со слишком высокими ступенями, был расписан портретами выдающихся исторических деятелей всех времен и народов от Сократа до, соблюдая хронологический порядок, наших дней. Безвестный вывесочных дел мастер, бродячий базарный художник на скупо ограниченном пространстве охватил почти целиком всемирную историческую эволюцию, причем — и это было самое замечательное в анонимном его произведении — у всех изображенных лиц мужского пола, включая Сократа, Александра Македонского, Петра Первого, Наполеона, Багратиона и так далее, были черные, щегольской стрелкой, кавказские усы, густые кустистые брови и глаза с поволокой, чуть навыкате, и все они, как один, были одеты в форменные френчи защитного цвета по моде времен военного коммунизма.
Женские портреты — царица Тамара, к примеру, или Екатерина Великая — тоже были практически неотличимы один от другого, все, как на подбор, красивые несколько выспренной, резкой красотою.
Он прошел Пушкинскую из конца в конец, но „Симпатии“ не обнаружил, как и другого погребка, поближе к Солдатскому базару, „Олимпии“. Он вернулся обратно и стал медленно, дом за домом, искать исчезнувший погребок и нашел его — крутые, слишком высокие и узкие ступени вели в прохладный сумрак, но вместо прежней висела новая вывеска, что-то вроде „Буфет № 4 гортреста столовых и ресторанов“. Он спустился вниз — ошибки быть не могло, хотя на неровно побеленных стенах не было и следа от былых изображений великих людей кисти безвестного живописца.
Он хотел было уйти отсюда, бежать от еще одного зряшного, обманувшего его воспоминания, но уж слишком знойно было снаружи, да и ноги гудели от усталости.
Он сел за столик под высоким, у самого потолка, окном, кроме него, в подвальчике не было ни души, видимо, час еще слишком ранний, решил он. Буфетчик, стоявший в мечтательно ленивой позе за своей стойкой, и не подумал подойти к нему и принять заказ, как то было заведено в прежние дни. Он даже вспомнил имя прежнего официанта — Вано. Пришлось встать самому и подойти к буфету, но на вопрос: что есть? — буфетчик только волооко повел головой в сторону прикнопленного к стене и пожухлого от времени листочка с меню.
В нем значились на закуску одни пельмени. Когда-то, подумал он без укора, тут и слова-то такого не знали — пельмени, раньше тут знали одни хинкали…
О зелени и сыре и речи не могло быть, это он понял, не задавая вопросов, по выражению буфетчикова лица.
Он взял бутылку вина, оно оказалось довольно холодным, и тарелку крупных серых пельменей, плавающих в мутноватом бульоне, и вернулся к своему столу.
Когда-то, вспоминал он, наливая вино в не слишком прозрачный стакан, когда-то, в первые студенческие годы, они пробавлялись тем, что в день стипендии приходили вчетвером или впятером сюда, в былую „Симпатию“, часам к шести вечера, когда погребок бывал пуст, и брали бутылку вина и немножко сыра и зелени, но не притрагивались к питью и еде, нетерпеливо глотая голодную слюну и дожидаясь, пока ресторанчик заполнится настоящими завсегдатаями, кредитоспособными вечерними кутилами и Вано подаст на их столы изобильную выпивку и закуску, и лишь потом, приглядевшись и безошибочно выбрав среди них подходящую компанию, посылали ей — „от нашего стола — вашему столу“ — единственную свою непочатую бутылку. Уловка была не нова и не слишком хитра, да они и не скрывали свою цель — достаточно было взглянуть на их отощавшие студенческие лица, но действовала без осечки: они не успевали и глазом моргнуть, как — „от нашего стола — вашему столу“, но в обратном направлении — Вано нес им полдюжины ответных бутылок, одуряюще-остро дымящиеся шашлыки, гору зелени, из которой выглядывала розовая редиска, пунцовые помидоры, снежно-белый круг сыра. А те, кто одарил их безвозмездным этим пиршеством, и не поворачивали к ним голов на могучих красных шеях, не смущали их ожиданием благодарности. И они, стараясь изо всех сил не торопиться, не уронить себя, насыщались впрок, до следующей стипендии.
Он не стал есть пельмени, они и на вид были невпрожев, пил, нетороясь, вино, еще хранящее, казалось, прохладу врытого в землю глиняного крестьянского квеври.
Мальчик возник за столом так же незаметно, как и в прошлые разы, сидел на краешке стула, подперев ладонями подбородок и глядя на него неотрывно своими серыми глазами из-под длинных, чуть загнутых кверху ресниц.
Он впервые увидел так близко, впритык лицо и глаза мальчика и, главное, его руки, подпиравшие подбородок, в особенности пальцы — толстые, распухшие, красные какой-то нездоровой желтоватой краснотою, и вспомнил: ну да, школу тогда и зимою почти не топили, да и дома жестяная самодельная „буржуйка“ с выведенным под прямым углом в окно коленом трубы, раскалившись докрасна и истошно потрескивая, тут же остывала, не только опилки, даже сырые, мелко распиленные дрова сгорали в ней мгновенно. Да еще скудное тогдашнее питание, авитаминоз или как это называлось, и руки уже с осени обмораживались, наливались этой водянистой краснотой, пальцы становились похожими на сардельки и не отходили даже за лето.
Вано — потому что теперь это был прежний Вано из прежней „Симпатии“, он даже нисколько не постарел и не изменился за эти годы, все в той же своей не бог весть какой свежести белой куртке — подошел к столу и поставил на него запотевшую бутылку и блюдо с сыром и зеленью, на ней, казалось, еще поблескивали капельки утренней росы, сказал безразлично: „От того стола — этому столу“, — и, не дожидаясь, как и тогда, ответа, ушел обратно за свою стойку.
Он повернул голову, огляделся — подвал был по-прежнему совершенно пуст, никто не мог прислать эту бутылку „от нашего стола — вашему столу“, этого просто некому было сделать. И тем не менее — вот она, и сыр, и зелень тоже, и мальчик — тут как тут.
И на стене — так ему почудилось по крайней мере — сквозь известку проглянули, все на одно лицо, в полувоенных френчах защитного цвета, лики исторических деятелей всех времен и народов. Мальчик не сводил с него внимательных, взыскующих невесть чего глаз, но теперь его присутствие уже не казалось ему странным.
— Кушай, бичо, — сказал мальчику из-за своей стойки Вано, — ты же голодный, зачем стесняешься?
Мальчик, не поблагодарив, не улыбнувшись, взял кусок хлеба в одну руку, помидор в другую и стал есть скупо и не торопясь, слизывая языком крошки с губ.
Вано из-за стойки следил за мальчиком серьезными и жалостливыми глазами.
Он повернулся к Вано, спросил, кивнув на мальчика:
— Ты не удивляешься?..
Вано пожал плечами как бы с укоризной за самый этот вопрос:
— Я давно ничему не удивляюсь, дорогой. А если и удивляюсь, так не тому, что было когда-то, а тому, что стало теперь. С тобой так разве не бывает? — И, кивнув в свою очередь в сторону мальчика, сказал как неопровержимое доказательство: — Его же это не удивляет…
Он вдруг вспомнил ни к селу ни к городу старую, времен сорок третьей школы, расхожую и теперь уже и не взять в толк что означавшую присказку: „Чечевицалобио, гамарджоба, Гогия…“
Мальчик продолжал аккуратно и неспешно есть, не глядя ни на кого, и он не знал, оставшись с ним с глазу на глаз, о чем говорить, чего мальчик ждет от него и в чем он должен перед ним повиниться.
У мальчика были давно не стриженные каштановые волосы, они свисали на шею сальными косичками.
А может быть, думал он, незаметно и с опасливым, ревнивым любопытством изучая мальчика, может быть, говорить вовсе не обязательно. Если все получилось так, а не иначе и мальчик — вот он, то нет ничего удивительного, если он знает обо мне не меньше, чем я о нем. Но тут ему пришло в голову: а знает ли он на самом деле правду о мальчике, помнит ли, не растерял ли ее?..