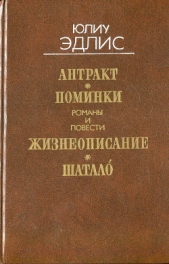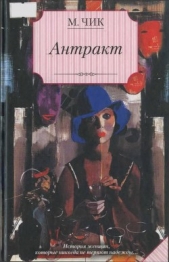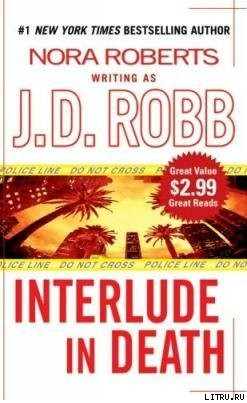Антракт: Романы и повести

Антракт: Романы и повести читать книгу онлайн
При всем различии сюжетов, персонажей, среды, стилистики романы «Антракт», «Поминки» и повести «Жизнеописание» и «Шатал?» в известном смысле представляют собою повествование, объединенное неким «единством места, времени и действия»: их общая задача — исследование судеб поколения, чья молодость пришлась на шестидесятые годы, оставившие глубокий след в недавней истории нашей страны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У одной из сестер, у Этери, вспомнил он, был патефон с двумя или тремя заезженными довоенными пластинками: «Рио-Рита», «Брызги шампанского», «Саша, ты помнишь наши встречи в приморском парке, на берегу» и еще что-то в этом же роде, и вечерами в общежитии собирались такие же молоденькие выздоравливающие флотские офицеры — впрочем, тогда этого слова — «офицеры» — в обиходе еще не было, были «командиры», — и под звуки заигранных, спотыкающихся на каждом такте старых шлягеров эти вчерашние мальчики и девочки танцевали до упаду танго, фокстрот и уинстеп, пели хором «Синий платочек» и «А волны бушуют и плачут…».
Деревянные галереи вдоль внутреннего фасада дома были увешаны перекинутыми через парапет тюфяками и подушками, с этого и тогда, вспомнил он, начинался день: хозяйки проветривали постель, снимали с веревок просохшее за ночь белье.
Он поискал глазами теннисный корт, — когда-то прямо напротив окон его полуподвала был заброшенный теннисный корт, в теннис на нем никогда не играли, до тенниса ли было в войну, они гоняли на нем тряпичный или, если повезет, и настоящий футбольный мяч, когда сбегали с уроков «на шатало». Вот еще одно забытое и ненароком всплывшее слово, подумал он ностальгически, интересно, знают ли его сегодняшние мальчишки?..
Слово было образовано из русского корня и грузинского окончания, его и переводить-то не надо было, и так яснее ясного: сбежать с уроков и шататься по городу.
И вдруг он почувствовал себя именно сбежавшим «на шатало» — из привычной своей жизни, из обыденного, набившего оскомину каждодневья, от самого себя нынешнего, каким он волей или неволей стал за эти сорок промелькнувших как один миг бесконечных лет, как тогда шатающимся без цели по полузабытому и вновь неспешно обретаемому давнишнему своему городу — без нужды, разве что в поисках самого себя прежнего.
Корта не было, вместо него стояло стандартное жилое здание, на пятачке перед ним гомонили сегодняшние дети.
Он прошел узким проходом между бывшим кортом и бывшим своим жильем, мимо подвальных, забранных частой металлической сеткой окон коридора, в котором некогда жил, нагнулся и заглянул в них — теперь это был, по-видимому, опять просто коридор, никто тут не обитал, перегородки, делившей его пополам, как не бывало, сквозь давно не мытые стекла он разглядел сваленные как попало, одна на другую, старые парты, списанную за ненадобностью школьную мебель, разбитые фаянсовые раковины — видно, теперь здесь был склад ненужных, отслуживших свое вещей.
Полуподвал, в котором жил дворник-курд с молчаливой толстухой женой и дочерью Ледиджен, тоже был наглухо забит, видно, и тут давно никто уже не проживает.
Он прошел двором дальше, вглубь.
Подняв голову и заслонив от слепящего солнца ладонью глаза, он посмотрел вверх на второй этаж, — там прежде жил сапожник Сурен с дочерью Норой, некогда, вдруг вспомнил он и почувствовал, как краска давнего стыда залила ему лицо, совратившей его и лишившей невинности на пропахших сухой пылью, источенных древоточцем хорах бывшей гимназической церкви.
На галерее как раз снимала с веревок просохшее белье толстая женщина с квадратной спиной под выцветшим ситцевым халатом с темными пятнами пота под мышками, низким, хрипловатым голосом разговаривающая с кем-то в комнате. Она не доставала до веревки и, взяв табурет, взобралась на него, потянулась руками к белью, халат задрался выше колен, и он увидел ее ноги, короткие, густо поросшие черными волосками, и сразу узнал их. Она, не глядя вниз, обернула лицо в сторону двора — нет, лица бы он никогда не узнал, голова ее была совершенно седа, в неряшливо торчащих во все стороны сивых лохмах, и он подумал, что человек старится как бы по частям и не одновременно: Норино лицо состарилось гораздо раньше ее ног.
Нора так и не поглядела вниз и, сняв белье, ушла в дом, да если б и поглядела, подумал он с облегчением, наверняка бы тоже не узнала его.
На первом этаже тут когда-то жила тетя Маня Попова, но он не был уверен, жива ли она еще, ей и в войну-то было, по его тогдашним понятиям, немало лет, она ему казалась глубокой старухой. И вдруг он с удивлением произвел простейший подсчет: на самом деле она была тогда моложе, чем он сейчас, ей наверняка не было и пятидесяти, а ведь он не считает себя не только стариком, но даже и пожилым человеком — мужчина средних лет, о таких говорят: в расцвете сил. Теперь-то ей было бы под девяносто, едва ли она так зажилась на свете. А уж муж-то ее, мелкий конторский служащий из бывших белых офицеров, которого она и в глаза и за глаза называла не иначе, как Поповым, по фамилии, или белым недобитком, наверняка умер раньше нее.
У дверей первого этажа сидела на низеньком детском стульчике какая-то древняя старушка; тень от одичалого винограда, обвивавшего деревянные столбы галереи, падала ей на лицо, и от этого оно казалось совершенно зеленым, мертвенно-тинистым и походило на лицо утопленницы или до срока состарившейся от печали андерсеновской Русалочки.
Но прежде чем он успел ее разглядеть и догадаться, кто она, и как бы для того лишь, чтобы помочь ему это сделать, появившийся невесть откуда — из слепящего полуденного света или из зеленой, тинистой тени винограда — мальчик подошел к тете Мане и сказал:
— Тетя Маня, в магазине сегодня по карточкам сахар не дают, завтра будут.
Он уже не хромал, колено зажило, только на правой штанине виднелся грубый, неумелый, толстыми суровыми нитками шов.
Но тетя Маня мальчику не ответила, даже не повернула головы, а он вдруг вспомнил, что тогда, сорок лет назад, тетя Маня Попова его почему-то недолюбливала да и ко всей их семье относилась недружелюбно и даже не старалась этого скрыть.
Но теперь она посмотрела на него спокойно и без удивления, словно бы сразу узнав и даже давно ожидая этой их встречи.
Он подошел к ней, она не встала со стула, а только протянула к нему руки — не протянула, подумал он, а скорее воздела, так будет точнее, — и ему пришлось низко наклониться, чтобы обнять ее, но до лица ее он все равно не дотянулся, детский стульчик, на котором она сидела, был слишком низенький, он только и сумел, что коснуться губами ее макушки — сквозь реденькую сухую седину просвечивала пергаментная, в старческих коричневых накрапинках кожа черепа. И еще он успел услышать запах, который исходил от тети Мани, — несильный, но стойкий и резкий, это не был запах неухоженного тела или давно не стиранного платья, ни даже нежаркого пота старческого бессилия, хотя все это тоже было в нем, — нет, это был совсем особый, не истребимый уже ничем запах самой старости, решил он про себя и невольно отстранился от тети Мани, и ее руки, воздетые к нему и легшие без тяжести на его плечи, обреченно соскользнули вниз на колени.
— Садись, — сказала тетя Маня, и он подивился тому, что голос у нее прежний — сильный, властный, и, узнав ее голос, он сразу признал и ее всю. Сквозь зеленую тень, падающую на ее лицо и застоявшуюся в глубоких морщинах и подглазьях, он увидел ее такою, какой она была когда-то — со следами былой, знающей себе цену привлекательности, которую она уже тогда, сорок лет назад, стоически-ревниво оберегала и подчеркивала слишком яркой губной помадой, насурмленными бровями и ресницами, густо положенными на отцветающие щеки румянами.
Ни румян, ни помады, но лицо ее было по-прежнему самоуверенным и горделивым, она все еще помнила себя роковой женщиной двадцатых и тридцатых годов, это было в пей неколебимо, и, может быть, единственно этим она и держалась до сих пор.
— Садись и рассказывай. Садись, иначе я буду тебя плохо слышать.
Но сесть ему было не на что, он опустился перед ней на корточки, сидеть так, да еще на солнцепеке, было неудобно, он скоро устал и вспотел, но встать не решился, так и оставался в этой неловкой позе все время их разговора.
Он рассказал ей все — а на самом деле ничего — о том, что произошло с ним за эти годы, ограничившись одними событиями: о смерти матери и отца, о работе, неудачной женитьбе и о взрослой уже дочери, но его рассказ был похож всего лишь на прерывистый пунктир, который он не стал ни обводить сплошной линией, ни заполнять рисунок красками, оттенками, светотенью истинной правды о своей жизни, которая, собственно говоря, словам и не поддается.