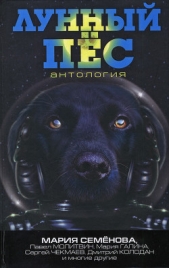Собрание сочинений. Т. 3

Собрание сочинений. Т. 3 читать книгу онлайн
Сергей Бочаров: …В позапрошлом веке было такое – «Среди долины ровныя…», «Не слышно шуму городского…», «Степь да степь кругом…». Тогда – «Степь да степь…», в наше время – «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Новое время – новые песни. Пошли приписы- вать Высоцкому или Галичу, а то кому-то еще, но ведь это до Высоцкого и Галича, в 50-е еще годы. Он в этом вдруг тогда зазвучавшем звуке неслыханно свободного творче- ства – дописьменного, как назвал его Битов, – был тогда первый (или один из самых первых).«Интеллигенция поет блатные песни». Блатные? Не без того – но моя любимая даже не знаменитый «Окурочек», а «Личное свидание», а это народная лирика. Обоев синий цвет изрядно вылинял, в двери железной кругленький глазок, в углу портрет товарища Калинина, молчит, как в нашей хате образок … Дежурные в глазок бросают шуточки, кричат ЗК тоскливо за окном: – Отдай, Степан, супругу на минуточку, на всех ее пожиже разведем . Лироэпос народной жизни. Садись, жена, в зелененький вагон…В те 60-е бывало так, что за одним столом исполняли свои песни Юз Алешковский (не под гитару, а под такт, отбиваемый по столу ладонями) и Николай Рубцов. И после «Товарища Сталина» и «Советской пасхальной» звучали рубцовские «Стукнул по карману – не звенит…», «Потонула во мгле отдаленная пристань…» (Я в ту ночь позабыл все хорошие вести, все призывы и звоны из кремлевских ворот, я в ту ночь полюбил все тюремные песни, все запретные мысли, весь гонимый народ… – впрочем, это до- письменное нельзя прописывать текстом вне музыкального звука). Аудиторию же составляли Владимир Соколов, Вадим Кожинов, Лена Ермилова, Ирина Бочарова, Ирина Никифорова, Андрей Битов, Герман Плисецкий, Анатолий Передреев, Станислав Куняев, Владимир Королев, Георгий Гачев, Серго Ломинадзе… Попробуем представить уже лет 15 спустя эту компанию за одним столом
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Гелий, конечно, не был законченным метафизиком, углубленно внимающим смыслам запредельного, но и он не раз ловил себя на том, что, уходя, скажем, из своего кабинета, автоматически тоскливо выискивает иногда, чего бы это взять да, как говорит народ, спиздить? Его, не нуждавшегося ни в скрепках, ни в копирке, ни в лампочках, ни в граненых стаканах, ни в пробке графина, просто поражала иногда и крайне удручала какая-то непостижимо навязчивая страсть казенного имущества саморасхититься.
Страсть эта не то чтобы чудовищно превышала его желание что-либо вдруг похитить, поскольку его самого и не тянуло никогда к чему-либо такому, – страсть эта как бы насиловала его волю, резонные возражения и чувство брезгливости, принимаемое иногда некоторыми раздражительными людьми за чувство чести.
Он словно бы попадал странным образом под гипнотическое влияние жалкой писчей бумаги и, непонятно зачем, сомнамбулически уносил домой листов тридцать-сорок. При этом он чувствовал, что бумага делает все, чтобы быть к тому же не только расхищенной, но предельно серой, волокнистой, обветренной, словно рожа взяточника-гаишника, – одним словом, отвратительно и преступно бескачественной.
Видимо, в состоянии босяцкой беспечности или в душке сопротивления самой божественной идее благообразия всего сущего пребывали многие другие опустившиеся советские изделия и предметы. Опустились они до этих состояний и настроений исключительно в знак протеста против бездарного разрушения переделывателями мира естественного порядка вещей.
За неимением лучшего Гелию поневоле приходилось приобретать всякую вещественную шалаву в агонизирующем магазине «Тысяча мелочей».
Ему порою казалось, что, например, купленная настольная лампа разгильдяйски изощренно довела себя до такой мазохистской самоуниженности, а людей, ее изготовлявших, до такой исступленной к ней ненависти, что общее внешнее уродство этого предмета, злобная его неприязнь к источникам питания электротоком да к физическому чуду горения лампочки, то есть явное презрение предмета к единственному своему назначению, могли быть внятно истолкованы лишь в категориях вредительского заговора исходного вещества уродливого этого монстра против знака качества государства.
Порою Гелию думалось, что, может быть, действительно существуют где-то там в преобширной невидимости микромира эти самые платоновские эйдосы – идеи всех вещей, и вот взяли, да и скосорылились от обиды на советскую власть эти самые идеи. А от одного только этого их скосорыленного вида, скажем, бумажник советский выглядит так, словно создан он не для денег и документов, а для мокроты Суслова, Черненко и других кашляющих кремлевских кощеев. Глубокая же столовая тарелка представляется вашему удрученному взгляду, как ночной горшок, неровно сплющенный по какому-то унылому производственному недоразумению или из-за давления сверху Госплана… Вполне возможно, на большинстве производимых изделий просто не мог не отразиться весь бред многолетнего общественного нашего безумия – так что, скажем, калоша или женская туфля предъявляют вам при первом же взгляде, брошенном на эти предметы первой исторической необходимости, не сущностные свои и целесообразные черты, а скорей уж какие-то фантасмагорические маски, наброшенные на замечательные идеи косорылой мужской калоши и многострадальной женской туфли.
Так что дурацким нашим вождям, трезво подумалось однажды вовсе не глупому Гелию, очумевшим от непостижимых вспышек коллективного сопротивления своему режиму некоторых веществ и изделий, следовало бы судить в двадцатые и тридцатые годы не вредителей и не козлов отпущения. Судить следовало прямо все эти платоновские эйдосы и природные вещества, принимавшие еще в зачаточных проектах вредительские формы чахоточных заводов, дохлых шахт, стратостатов «Красный Даун», парализованных ледоходов, вездеходов «Паркинсон», разорительных каналов, самоубийственных ГЭС, паровозов, сходящих с дистрофичных рельс, велосипедов имени Альцгеймера и так далее… Проморгали, товарищи… Надо было всем этим ленинско-сталинским дегенератам довести дело практического богоборчества до победного конца и насильственно большевизировать враждебное природное окружение с тем, чтобы ни один, понимаете, сраный атом никогда уже не смел посягать на священные принципы демократического централизма в области стандарта качества. Тогда бы туалетная бумага не соседствовала с мясом в адской колбасе нынешних апокалипсических времен. Да и трико дамские не натирали бы нежные промежности бедных наших женщин так, что тик у них появляется на милых лицах от усилий по поддержанию внешне грациозного вида… Впрочем, все советское – значит отличное от нормального, и тут уж ни хрена не поделаешь с этой дерзкой загадкой природы…
Неужели, подумалось однажды Гелию в ужасе некоторого прозрения, неодушевленные вещества действительно сумели, как-то обфинтив ЧК и дьявольски хитрющего Ильича, отреагировать в далеком Октябре на внезапное отлучение обывателя от его частнособственнических, благородных с ними отношений?
Не поэтому ли поганенькая какая-нибудь туалетная бумажонка в учрежденческом сортире – ничтожней которой и одновременно полезней нет изделия на белом свете – просто умоляет тебя немного отныкать ее от рулона, унести отсюда к чертовой матери домой и превратить хоть на время из собственности социалистической в личную твою собственность, если уж тебе так совестно шлепнуть весь рулон целиком. Но ты превозмогаешь типично советское, пошленькое искушение, сумев все же как-то соразмерить свою справочную нужду в дефицитной туалетной бумажонке с нуждою в ней твоих коллег и сослуживцев, не всегда, надо сказать, отвечавших тебе столь же старомодной деликатностью и благородством сопереживания твоих гигиенических движений.
Неужели смогли вещи внушить поголовно всем обывателям, что одна шестая часть света начала в Октябре угрюмо необратимое движение к тем роковым временам, когда, скажем, мужские кальсоны и дамские лифчики не то что тошно будет носить, но они вообще исчезнут однажды, как и прочий ширпотреб, из поля зрения поколений?
Исчезнут, пропадут, уйдут в хитромудрое подполье, начнут набивать себе цену, а потому-то все теперь позволено. Казенное имущество не грех безбожно расхищать, превращая в собственное и безрассудно обгоняя темпами расхищения темпы воспроизведения всего сладострастно расхищенного… Так что же Горбачев этот без толку по воде бьет хвостом, поднимая вокруг тучи всевозможных бесов, когда необходимо в экстренном порядке вернуть обществу людей собственность и свободу,насильно отнятые у них в семнадцатом, чтобы не развалились остатки нашего дома до совсем уже помпейского состояния!… Эх, Время, Время, до чего ж дозволило ты нам довести самих себя, что в такой вот критический момент под руками у тебя и у нас не оказалось деятеля порешительней и подальновидней!… В общем, подумав однажды о плодах такого вот развитого заговора обывателей и вещей в масштабах всего нашего псевдосоциалистического государства – заговора, целью которого, безусловно, являлся тотальный дефицит поголовно всех товаров, вкупе с посрамлением мистически всесильного Госплана, – и помножив плоды эти на долгие годы борьбы, побед и силу нарастания неумолимой энтропии в казенной торговой сети, Гелий ужаснулся близости неминуемого краха всей Системы, а может быть, даже и всей Империи.
13
Он ее поминал уже несколько месяцев со странным чувством все того же спортивного боления за нее и одновременно с полнейшим равнодушием к судьбе советского монстра.
Вот о нем он и думал по дороге к НН, решив в ближайшее же время плюнуть раз и навсегда и на него, и на всю эту непотребную туфту современности. Харкнуть с гадливостью, тайно набравшейся в душе за все эти похабные годы, и вообще уйти с головой в тихую частную жизнь. «Благо, средств для этого вполне хватит после сдачи за бугром изделия и получения моей доли в “зелени”… да, сволочь бесовская, в “зелени”…»
Предчувствие чего-то такого небывалого и совершенно чудесного, что должно случиться с ним и с НН именно сегодня, все нарастало радостно в его душе и нарастало. И чтобы умерить странное душевное волнение, которого он давно уже не испытывал в своей тоскливой жизни, Гелий специально заставил себя думать о конечном смраде советской истории.