Повести о Глассах
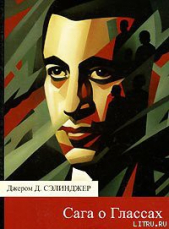
Повести о Глассах читать книгу онлайн
В данном издании все повести приводятся в порядке написания их автором. Однако для желающих могу указать последовательность согласно внутренней хронологии семьи Глассов: «Хэпворт 16, 24», «Выше стропила, плотники», «Фрэнни», «Зуи», «Симор: Введение». Напомню также, что к Глассам относятся три с половиной рассказа из сборника «Девять рассказов».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Думаю – нет, знаю, – что следующий эпизод будет последним моим «реалистическим» описанием. Постараюсь рассказать с юмором. Хочется перед сном как-то проветриться.
Наверно, выйдет что-то вроде Анекдота, пропади я пропадом! Ну и пусть! Когда мне было лет девять, у меня создалось очень лестное мнение о себе как о Самом Быстром Бегуне В Мире. Добавлю, что это была одна из тех навязчивых, ни на чем не основанных идей, которые необычайно живучи, и даже теперь, в сорок лет, при моем исключительно сидячем образе жизни, я иногда воображаю, как я, в своем обычном штатском костюме, пролетаю мимо толпы прославленных, но уже запыхавшихся олимпийских стайеров и очень любезно, без тени снисхождения, машу им ручкой. Словом, в один прекрасный весенний вечер, когда мы еще жили на Риверсайд-Драйв, Бесси послала меня в кондитерскую за мороженым. Я вышел из дому в тот самый волшебный сумеречный час, какой я описал на предыдущих страницах. И еще одно обстоятельство в данном случае оказалось роковым: на мне были спортивные тапки – а для мальчика, который себя считал Самым Быстрым Бегуном В Мире, такие тапки – все равно что красные туфельки для девочки из сказки Ханса Кристиана Андерсена. И как только я выскочил из дому, я превратился в настоящего Меркурия и пустился в «отчаянный» спринт вдоль длинной улицы до Бродвея. Я срезал угол Бродвея «на одном колесе» и помчался, ускоряя темп сверх всякой возможности. Кондитерская, где продавали мороженое «Шерри» – Бесси упорно не признавала ничего другого, – находилась в трех кварталах к северу, на Сто тринадцатой улице. Я пролетел мимо писчебумажной лавки, где мы обычно покупали газеты и журналы, ничего не видя, не замечая по дороге ни родных, ни знакомых. И вдруг, через квартал, я услышал, что кто-то, тоже бегом, меня преследует. У меня сразу мелькнула мысль, характерная для каждого жителя Нью-Йорка: за мной гонится полиция, очевидно, за то, что я виноват в Превышении Скорости на He-Школьной улице. Я весь напрягся, стараясь выжать из себя предельную скорость, но ничего не вышло. Я почувствовал, как чья-то рука схватила меня за свитер, именно за то место, где должен был бы красоваться номер нашей команды-победительницы. В ужасе я остановился, как ошалевшая птица, подбитая в полете. Преследователем моим, разумеется, был Симор, и вид у него тоже был перепуганный до чертиков. "В чем дело? Что стряслось?" – крикнул он, задыхаясь и не выпуская мой свитер из рук. Я вырвался от него и в достаточно непечатных выражениях, бытовавших в нашем обиходе, – повторять их дословно я не стану, – объяснил ему, что ничего не стряслось, ничего не случилось, что я просто бежал и нечего орать. Он вздохнул с огромным облегчением. «Ну, брат, и напугал же ты меня! – сказал он. – Ух, ну ты бежал! Еле догнал тебя!» И мы пошли не спеша в кондитерскую. Странно – а может быть, и совсем не странно – было то, что настроение у того, кто стал теперь не Первым, а Вторым Быстрейшим Бегуном В Мире, ничуть не испортилось. Во-первых, догнал меня именно ОН. А кроме того, я напряженно следил, как он здорово запыхался. Очень увлекательно было смотреть, как он пыхтит.
Вот я и кончил свой рассказ. Вернее, он меня прикончил. В сущности, я всегда мысленно сопротивлялся всяким финалам. Сколько рассказов, еще в юности, я разорвал просто потому, что в них было то, чего требовал этот старый трепач, Сомерсет Моэм, издевавшийся над Чеховым, то есть Начало, Середина и Конец. Тридцать пять? Пятьдесят? Когда мне было лет двадцать, я перестал ходить в театр по тысяче причин, но главным образом из-за того, что я до черта обижался, когда приходилось уходить из театра только потому, что какой-нибудь драматург вдруг опускал свой идиотский занавес. (А что же потом случилось с этим доблестным болваном, Фортинбрасом? Кто, в конце концов, починил его возок?) Однако, невзирая на все, я тут ставлю точку. Правда, мне хотелось еще бегло коснуться кое-каких весомых и зримых подробностей, но я слишком определенно чувствую, что мое время истекло. А кроме того, сейчас без двадцати семь, а у меня в девять часов лекция. Только и успею на полчаса прилечь, потом побриться, а может быть, принять прохладный, освежающий, предсмертный душ. Да еще мне вдруг захотелось, вернее, не то чтобы захотелось, упаси бог, а просто возник привычный рефлекс столичного жителя – отпустить тут какое-нибудь не слишком ядовитое замечание по адресу двадцати четырех барышень, которые только что вернулись после развеселых отпусков во всяких Кембриджах, Ганноверах или Нью-Хейвенах и теперь ждут меня в триста седьмой аудитории. Да вот никак не развяжусь с рассказом о Симоре, – даже с таким никуда не годным рассказом, где так и прет в глаза моя неистребимая жажда утвердить свое "я", сравняться с Симором, – и забывать при этом о самом главном, самом настоящем. Слишком высокопарно говорить (но как раз я – именно тот человек, который это скажет), что не зря я – брат брату моему и поэтому знаю – не всегда, но все-таки знаю, – что из всех моих дел нет ничего важнее моих занятий в этой ужасной триста седьмой аудитории. И нет там ни одной девицы, включая и Грозную Мисс Цабель, которая не была бы мне такой же сестрой, как Бу-Бу или Фрэнни. Быть может, в них светится бескультурье всех веков, но все же в них что-то светится. Меня вдруг огорошила странная мысль: нет сейчас на свете ни одного места, куда бы мне больше хотелось пойти, чем в триста седьмую аудиторию. Симор как-то сказал, что всю жизнь мы только то и делаем, что переходим с одного маленького участка Святой Земли на другой. Неужели он никогда не ошибался?
А сейчас лягу, посплю. Быстро. Быстро, но неторопливо.
16-й день Хэпворта 1924 года
40
Несколько предварительных замечаний – сухо и по существу, в меру моих возможностей.
Первое. Меня зовут Бадди Гласс, и я много лет своей жизни, может быть, даже все сорок шесть, ощущаю себя чем-то вроде прибора, специально установленного, подсоединенного и временами приводимого в действие ради единственной цели – пролить немного света на короткую переменчивую жизнь моего покойного старшего брата Сеймура Гласса, который умер, покончил с собой, предпочел прекратить существование еще в 1948 году, тридцати одного года от роду.
Я намерен прямо вот сейчас, возможно, даже на этом же листе, начать дословно перепечатывать одно письмо Сеймура, которое я сам впервые прочел только четыре часа назад. Моя мать Бесси Гласс прислала мне его заказной почтой.
Сегодня пятница. В минувшую среду поздно вечером я сказал ей вскользь по телефону, что уже несколько месяцев пишу большой рассказ про некий вечер в 1926 году, на котором мы присутствовали вчетвером – она и наш отец и мы с Сеймуром – и который имел для нас довольно важные последствия. Между этим эпизодом и письмом Сеймура существует, мне кажется, некая чудесная связь. «Чудесная» – плохое слово, не спорю, но здесь оно как будто подходит.
И больше никаких комментариев, повторюсь только, что намерен воспроизвести письмо Сеймура совершенно точно, слово в слово, до последней буквы, до запятой. Начиная прямо отсюда.
28 мая 1965 г.
Лагерь Саймона Хэпворта. Хэпворт-Лейк, Хэпворт, шт. Мэн. Хэпворта 16-го дня 1924 г. или вообще Бог весть когда.
Дорогие Бесси, Лес, Беатриса, Уолтер и Уэйкер!
Я буду писать за нас обоих, поскольку Бадди в настоящее время занят делами в другом месте и неизвестно когда освободится. Этот неуловимый, потешный, замечательный парнишка, как мне это ни забавно и ни печально, чуть не шестьдесят или даже восемьдесят процентов времени бывает занят делами где-нибудь в другом месте! Как вы, конечно, и сами знаете в глубине души и тела, мы по всем вам скучаем просто жутко. Мне очень стыдно, но не могу не желать и вам того же. Это до смешного приводит меня в отчаяние, и даже не очень-то до смешного. Ужасное безобразие, если все время чего-то добиваешься в себе, а потом начинаешь поглядывать, как на это реагируют другие. По моему убеждению, если с А. во время прогулки сорвало ветром шляпу, приятный долг Б. – поднять ее и вернуть А., не заглядывая ему в лицо и не ища на нем выражения благодарности. Боже мой, неужели я не могу научиться скучать по своим родным, не желая, чтобы и они скучали по мне в ответ? Для этого нужен характер потверже, чем у меня. Но Боже мой, с другой стороны гроссбуха, вы ведь все такие ужасно обаятельные, разве таких забудешь. Как нам не хватает всех ваших живых, выразительных лиц! Я родился безо всякой защиты на случай длительного отсутствия тех, кого я люблю. Простой, упрямый, смехотворный факт состоит в том, что моя независимость – только на поверхности, не то что у моего неуловимого младшего брата и солагерника. При том что мне сегодня без вас особенно горько, даже, если разобраться, почти невыносимо, я еще использую предоставившуюся мне редкую возможность, чтобы поупражняться во вновь освоенных простых приемах письменного сочинения и конструкции фраз, приведенных и слегка развитых в той книжице, местами бесценной, а местами – вздор собачий, которую, как вы видели, я изучал не отрываясь в трудные дни перед нашим отъездом сюда. Хотя для вас, дорогие Бесси и Лес, это все ужасная тощища, но превосходное – или хотя бы сносное – построение фразы представляет кое-какой курьезный интерес для глупого юнца вроде меня. Я был бы рад за предстоящий год избавиться от напыщенности, которая грозит погубить мое будущее как юного поэта, домашнего ученого и скромного человека. Очень прошу вас обоих и, может быть, мисс Овермен тоже, если вам случится заглянуть к ней в библиотеку или повстречаться с ней где-нибудь, пожалуйста, пройдитесь холодным, непредвзятым взглядом по нижеследующим страницам и немедленно дайте мне знать, если обнаружите вопиющие или просто неряшливые ошибки в композиции, грамматике, пунктуации, а также погрешности против безупречного вкуса. Доведись вам случайно или намеренно увидеться с мисс Овермен, пожалуйста, попросите ее быть в этом отношении ко мне убийственно беспощадной и объясните ей дружески, что меня просто убивает пропасть, существующая между моим письменным и разговорным голосом! Очень неприятно и подло иметь два голоса. А также передайте этой милейшей невоспетой женщине мой неизменно теплый и почтительный привет. Как бы мне хотелось, чтобы вы, мои любимые, перестали раз и навсегда считать ее про себя старой грымзой. Никакая она не грымза. На свой обезоруживающий и скромный лад эта маленькая женщина обладает простотой и отвагой не хуже какой-нибудь безымянной героини Гражданской или Крымской войны – двух, по-моему, самых трогательных войн за последние несколько столетий. Бог мой, вы только попытайтесь представить себе, ведь для этой достойной незамужней женщины нет в этом столетии даже подходящего уголка! Текущее столетие для нее – одна сплошная вульгарная неловкость. В глубине души она была бы рада прожить остаток своих лет подругой и доброй соседкой Элизабет и Джейн, двух в разной мере очаровательных героинь «Гордости и предубеждения», а они бы обращались к ней за разумными и практическими советами. На самом-то деле она ведь даже и не библиотекарь в душе, к сожалению. Как бы там ни было, предложите ей, пожалуйста, какой-нибудь кусок этого письма, на ваш взгляд наименее личный или пошлый. И попросите не судить мои писания так уж строго. Честно сказать, они не стоят того, чтобы тратить на них ее терпение, убывающие физические силы и очень приблизительное чувство реальности. К тому же, честно сказать, хотя с годами я и научусь писать немного лучше и мои сочинения станут меньше походить на записки сумасшедшего, все-таки на самом деле они совершенно безнадежны. Каждый штрих пера всегда так и будет нести на себе знак моей неуравновешенности и избытка чувств. Ничего не поделаешь!
























