Повести о Глассах
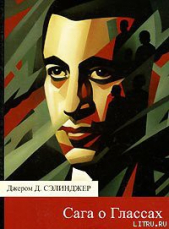
Повести о Глассах читать книгу онлайн
В данном издании все повести приводятся в порядке написания их автором. Однако для желающих могу указать последовательность согласно внутренней хронологии семьи Глассов: «Хэпворт 16, 24», «Выше стропила, плотники», «Фрэнни», «Зуи», «Симор: Введение». Напомню также, что к Глассам относятся три с половиной рассказа из сборника «Девять рассказов».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я круто обернулся к нему, и Айра, кажется, тоже. Яркие круглые лампочки только что зажглись под козырьком нашего парадного. Симор стоял на обочине, перед входом, раскачиваясь на пятках, засунув руки в карманы своей кожаной куртки, и смотрел на нас. Фонари под навесом парадного освещали его сзади, и лицо его виднелось смутно, тонуло в тени. Ему было десять лет. По его позе, по манере держать руки в карманах, раскачиваться на пятках, словом, по некоему «фактору икс», я понял, что и он тоже до глубины души чувствует волшебную прелесть этого сумеречного часа. «А ты не можешь целиться не так долго? – спросил он, не сходя с места. – Если ты нацелишься и попадешь, значит, тебе просто повезло». Он сказал эти слова как-то доверительно, не нарушая обаяния этого вечера. Нарушил его я сам. Сознательно. Нарочно. "Что значит «повезло», если я целился?" – говорил я негромко (несмотря на курсив), но более раздраженным тоном, чем мне хотелось. Минуту он помолчал, потоптавшись по обочине, посмотрел на меня, я чувствовал – с любовью. "А вот так, – сказал он. – Ведь ты обрадуешься, если попадешь в шарик Айры? Да? Обрадуешься, верно? А раз ты обрадуешься, когда попадешь в чей-то шарик, значит, ты в душе был не совсем уверен, что попадешь. Значит, тут должно быть какое-то везение, случайность, что ли".
Он сошел с тротуара на мостовую, не вынимая рук из карманов, и пошел к нам. Мне показалось, что он задумался, и потому переходит темную улочку очень медленно. В сумерках он подплыл к нам, как парусная шхуна. Но оскорбленное самолюбие овладевает человеком быстрее всего на свете: он еще не успел к нам подойти, как я бросил Айре: «Все равно надо кончать, уже совсем темно», – и торопливо бросил игру.
От этого короткого «пентименто» – или как оно там называется – я сейчас буквально покрылся испариной с ног до головы. Хочу закурить, но в пачке ни одной сигареты, а вставать с кресла неохота. Господи, твоя воля, до чего это благородная профессия! Хорошо ли я знаю своего читателя? Что я могу рассказать ему, чтобы зря не смущать ни его, ни себя? Могу сказать одно: и в его, и в моем сознании уже уготовано место для каждого из нас. Я свое место в жизни, до последней минуты, осознавал всего раза четыре. Сейчас осознаю в пятый раз. Надо хоть на полчаса лечь на пол, отдохнуть. Извините меня, пожалуйста.
Сейчас пойдет абзац, подозрительно похожий на примечание к программе спектакля, но после строк, написанных выше, я чувствую, что мне этого театрального приема не избежать. Прошло три часа. Я уснул на полу. (Но я уже пришел в себя, дорогая Баронесса. О боже, что же Вы обо мне подумали? Умоляю Вас, разрешите позвонить лакею, пусть принесет бутылочку того самого редкостного вина из моих собственных виноградников, и я надеюсь, что Вы хотя бы…). Но я хочу – по возможности коротко объяснить, что, каковы бы ни были причины некоторой Путаницы в записях, сделанных три часа назад, я никогда в жизни не обольщал себя мыслью, что мои возможности (мои скромные возможности, дорогая Баронесса) позволяют мне безукоризненно хранить в памяти почти все прошлое. В ту минуту, когда я вспотел, вернее довел себя до седьмого пота, я не очень точно помнил, что именно говорил Симор, – да и его, тогдашнего, вспоминал как-то слишком бегло. Но вдруг меня осенила и совсем сбила с толку еще одна мысль: ведь Симор для меня – велосипед фирмы «Дэвега». Почти всю мою жизнь я ждал малейшего повода, не говоря уж о «предлагаемых обстоятельствах», чтобы кому-нибудь подарить мой велосипед фирмы «Дэвега». Спешу тотчас же объяснить, о чем идет речь.
Когда Симору было пятнадцать, а мне – тринадцать лет, мы как-то вечером вышли в гостиную, кажется, послушать передачу двух комиков и попали в самый разгар жуткого и почему-то зловеще приглушенного скандала. В гостиной находились только наши родители и братишка Уэйкер, но мне показалось, что еще какие-то маленькие существа подслушивают из надежного укрытия. Лес был весь ужасно красный, Бесси так поджала губы, что их и видно не было, а наш брат Уэйкер, которому, по моим соображениям, тогда было ровно девять лет и четырнадцать часов, стоял у рояля, босиком, в пижаме, заливаясь слезами. При таких семейных передрягах мне первым делом хотелось нырнуть в кусты, но так как Симор явно не собирался уходить, то остался и я. Лес, стараясь сдержать свой гнев, сразу выложил Симору обвинительный акт. Этим утром, как мы уже знали, Уолт и Уэйкер получили ко дню рождения одинаковые, очень красивые и – не по средствам – дорогие подарки: два одинаковых белых с красным велосипеда со свободной передачей и двойным тормозом, словом, те самые велосипеды, которыми ребята постоянно восхищались, стоя перед витриной спортивного магазина «Дэвега» на Восемьдесят шестой улице, неподалеку от Лексингтон-авеню и Третьей. Минут за десять до того, как мы с Симором вышли из нашей комнаты, Лес обнаружил, что в подвале нашей квартиры, где в целости и сохранности стоял велосипед Уолта, второго велосипеда, Уэйкера, не оказалось. Днем в Центральном парке Уэйкер отдал свой велосипед. Незнакомый мальчишка («какой-то прохвост, которого он видел в первый раз в жизни») подошел к Уэйкеру, попросил у него велосипед, и Уэйкер тут же отдал ему машину. Конечно, и Лес, и Бесси понимали «добрые, благородные побуждения» своего сына, но все же оба осуждали его поступок со своей, вполне логичной, точки зрения. Что должен был, по их мнению, сделать Уэйкер? Лес подчеркнуто повторил это специально для Симора: надо было позволить этому мальчику "хорошенько, вволю, покататься на велосипеде – и все!". Но тут Уэйкер, захлебываясь слезами, перебил отца. Нет, мальчику вовсе не хотелось« вволю покататься» – он хотел иметь свой велосипед. У этого мальчика никогда не было собственного велосипеда, а он всегда мечтал иметь свой собственный велосипед. Я взглянул на Симора. Он вдруг заволновался. По его лицу было видно, что он всех их очень любит, но стать на чью-нибудь сторону в таком сложном вопросе никак не может. Однако я знал по опыту, что сейчас в этой комнате чудом воцарится полнейший мир. («Мудрец вечно полон тревоги и сомнений, прежде чем что-либо предпринять, но оттого ему всегда и сопутствует успех». Тексты Чжуан-цзы, книга XXXVI.) Не стану на этот раз подробно описывать, как Симор хотя и несколько путано, что ли, – мне трудно найти подходящее слово, – но все же настолько разобрался в самой сути дела, что через несколько минут все три противника уже мирились и целовались. Хотя мне трудно доказать то, что я хочу – это для меня дело слишком личное, – но, по-моему, я как-то все объяснил. Однако то, что Симор крикнул, вернее подсказал мне, в тот вечер, в 1927 году, когда мы играли в «шарики», мне кажется настолько важным и существенным, что придется еще немного на этом остановиться. Впрочем, стыдно сказать, но, на мой взгляд, сейчас самое важное и самое существенное только то, что сорокалетний братец Симора, весь напыжившись от гордости, радуется оттого, что ему подарили наконец велосипед «Дэвега», который он волен отдать кому угодно, – предпочтительно первому же, кто попросит. У меня такое ощущение, что я сам думаю, верней размышляю, правильно ли сейчас перейти от одних псевдометафизических тонкостей, хотя и чисто личных и мелких, к другим, хотя и общим и крупным. То есть, проще говоря, ни на миг не отвлекаться на всякие разглагольствования, столь присущие моему многословному стилю. Словом, пошли дальше: когда Симор на перекрестке подсказал мне, что не надо целиться в шарик Айры Янкауера, – не забывайте, что ему тогда было только десять лет, – то мне сдается, что он инстинктивно давал то же указание, какое дает мастер-лучник в Японии, когда он запрещает начинающему, слишком ревностному, ученику нацеливать стрелу прямо в мишень, то есть когда мастер-лучник разрешает, так сказать, Целиться – не Целясь. Я бы предпочел, однако, совсем не упоминать в этой малоформатной диссертации ни стрелков, ни вообще ученье Дзен, отчасти несомненно из-за того, что для изысканного слуха само слово «Дзен» все больше становится каким-то пошлым, культовым присловьем, хотя это имеет свое, впрочем, в значительной степени поверхностное оправдание. (Говорю, поверхностное, потому что Дзен в чистом виде несомненно переживет своих европейских последователей, так как большинство из них подменяет учение об Отрешенности призывом к полному душевному безразличию, даже к бесчувственности, – и эти люди, очевидно, ничуть не постеснялись бы опрокинуть Будду, даже не отрастив себе сначала золотой кулак. Нужно ли добавить, – а добавить это мне, при моем темпе, необходимо, – что учение Дзен в чистом своем виде останется в целости и сохранности, когда снобы вроде меня уже уйдут со сцены.) Но главным образом я предпочел бы не сравнивать совет Симора насчет игры в «шарики» с дзеновской стрельбой из лука просто потому, что сам я отнюдь не дзеновский стрелок и, более того, не приверженец буддистского учения Дзен. (Кстати ли тут упомянуть, что корни нашей с Симором восточной философии, если их можно назвать «корнями», уходят в Ветхий и Новый завет, в Адвайта-Веданту и классический Даосизм? И если уж надо выбирать для себя сладкозвучное восточное имя, то я склоняюсь к тому, чтобы назвать себя третьесортным Карма-Йогом с небольшой примесью Джняна-Йоги, для пикантности. Меня глубоко привлекает классическая литература Дзен. Я даже имею смелость читать лекции о ней и о буддийской литературе «Махаяна» раз в неделю в нашем колледже, но вся моя жизнь не могла бы быть более антидзеновской, чем она есть, и все, что я познал – выбираю этот глагол с осторожностью – из учения Дзен, является результатом того, что я совершенно естественно иду своим путем, никак не соответствующим этой доктрине. Об этом меня буквально умолял Симор, а он в таких делах никогда не ошибался.) К счастью для меня, да, вероятно, и для всех прочих, я считаю, что нечего припутывать Дзен к истории с шариками. Тот способ целиться, который мне тогда чисто интуитивно посоветовал Симор, можно описать нормальными и невосточными словами: это тот же способ, каким курильщик искусно бросает окурок через всю комнату в небольшую корзину. По-моему, искусством этим отлично владеет большинство курильщиков-мужчин, но лишь в том случае, когда им совершенно наплевать – попадет ли окурок в корзинку или нет, или когда в комнате нет свидетелей, включая, так сказать, и самого метателя окурка. Постараюсь как можно меньше пережевывать эту деталь, хотя и нахожу в ней большой вкус, но спешу добавить, – чтобы вернуться к игре в «шарики», – что Симор, метнув шарик, весь расплывался в улыбке, услышав, как звякнуло стекло о стекло, но видно было, что он при этом даже не интересовался, кто именно выиграл от этого удара. И факт остается фактом: почти всегда кто-нибудь другой подбирал шарик и вручал его Симору, если выиграл он. Слава Создателю, тема закрыта. Уверяю вас, тут моя воля ни при чем.
























