Том 10. Рассказы. Очерки. Публицистика. 1863-1893.
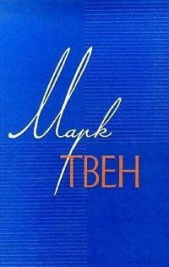
Том 10. Рассказы. Очерки. Публицистика. 1863-1893. читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
КОЕ—КАКИЕ ФАКТЫ, ПРОЛИВАЮЩИЕ СВЕТ НА НЕДАВНИЙ РАЗГУЛ ПРЕСТУПНОСТИ В ШТАТЕ КОННЕКТИКУТ
Я был весел, бодр и жизнерадостен. Только я успел поднести зажженную спичку к сигаре, как мне вручили утреннюю почту. Первый же конверт, на котором остановился мой взгляд, был надписан почерком, заставившим меня задрожать от восторга. Это был почерк моей тетушки Мэри, которую после моих домашних я любил и уважал больше всех на свете. Она была кумиром моих детских лет, и даже зрелый возраст, столь роковой для многих юношеских увлечений, не сверг ее с пьедестала, – наоборот, именно в эти годы право тетушки безраздельно царить в моем сердце утвердилось навеки. Чтобы показать, насколько сильным было ее влияние на меня, скажу лишь следующее: еще долгое время после того, как замечания окружающих, вроде: «Когда ты, наконец, бросишь курить?», совершенно перестали на меня действовать, одной только тете Мэри, – когда она касалась этого предмета, – удавалось пробудить мою дремлющую совесть и вызвать в ней слабые признаки жизни. Но увы! всему на свете приходит конец. Настал и тот счастливый день, когда даже слова тети Мэри меня уже больше не трогали. Я восторженно приветствовал наступление этого дня, более того – я был преисполнен благодарности, ибо к концу этого дня исчезло единственное темное пятно, способное омрачить радость, какую всегда доставляло мне общество тетушки. Ее пребывание у нас в ту зиму доставило всем огромное удовольствие. Разумеется, и после того блаженного дня тетя Мэри продолжала настойчиво уговаривать меня отказаться от моей пагубной привычки. Однако все эти уговоры решительно ни к чему не повели, ибо стоило ей коснуться сего предмета, как я тотчас же выказывал спокойное, невозмутимое, твердое, как скала, равнодушие. Последние две недели ее достопамятного визита пронеслись легко и быстро, как сон, – я был преисполнен величайшего благодушия. Я не мог бы извлечь больше удовольствия из своего излюбленного порока даже в том случае, если бы моя нежная мучительница сама была курильщицей и защитницей курения. Итак, почерк тетушки напомнил мне, что я жаждал снова увидеться с нею. Я без труда угадал содержание ее письма. Я вскрыл его. Прекрасно! Именно то, чего я ожидал: она приезжает! Приезжает не далее как сегодня, и притом утренним поездом. Значит, ее можно ожидать с минуты на минуту.
Я сказал себе: «Теперь я совершенно доволен и счастлив. Если бы мой злейший враг явился сейчас передо мною, я бы с радостью загладил все то зло, которое ему причинил».
Не успел я произнести эти слова, как дверь отворилась, и в комнату вошел сморщенный карлик в поношенной одежонке. Он был не более двух футов ростом. Ему можно было дать лет сорок. Каждая черточка, каждая часть его тела казалась чуть—чуть не такой, как надо, и хотя вы не могли указать пальцем на одно определенное место и сказать: «Здесь явно что—то не то», это маленькое существо было воплощением уродства – неуловимого, однако равномерно распределенного, хорошо пригнанного уродства. Лицо и острые маленькие глазки выражали лисью хитрость, настороженность и злобу. И тем не менее у этого дрянного огрызка человеческой плоти было какое—то отдаленное, неуловимое сходство со мной! Карлик смутно напоминал меня выражением лица, жестами, манерой и даже одеждой. У него был такой вид, словно кто—то неудачно пытался сделать с меня уменьшенный карикатурный слепок. Особенно отталкивающее впечатление произвело на меня то, что человечек был с ног до головы покрыт серо—зеленым мохнатым налетом – вроде плесени, какая иногда бывает на хлебе. Вид у него был просто тошнотворный.
Он решительно пересек комнату и, не дожидаясь приглашения, с необыкновенно наглым и самоуверенным лицом развалился в низком кресле, бросив шляпу в мусорную корзину. Затем он поднял с полу мою старую пенковую трубку, раза два вытер о колено чубук, набил трубку табаком из стоявшей рядом табакерки и нахальным тоном потребовал:
– Подай мне спичку!
Я покраснел до корней волос – отчасти от возмущения, но главным образом оттого, что вся эта сцена напомнила мне – правда, в несколько преувеличенном виде – мое собственное поведение в кругу близких друзей. Разумеется, я тут же отметил про себя, что никогда, ни разу в жизни не вел себя так в обществе посторонних. Мне очень хотелось швырнуть карлика в камин, но смутное сознание того, что он помыкает мною на некоем законном основании, заставило меня повиноваться его приказу. Он прикурил и, задумчиво попыхивая трубкой, отвратительно знакомым мне тоном заметил:
– Чертовски странная нынче стоит погода.
Я снова вспыхнул от гнева и стыда, ибо некоторые его словечки – на этот раз без всякого преувеличения – были очень похожи на те, какие и я в свое время частенько употреблял. Мало того, он произносил эти слова таким тоном и так отвратительно их растягивал, что вся его речь казалась пародией на мою манеру разговаривать. Надо сказать, что я пуще всего на свете не переношу насмешек над своей привычкой растягивать слова. Я резко сказал:
– Послушай, ты, ублюдок несчастный, веди себя прилично, а не то я выкину тебя в окно!
Нисколько не сомневаясь в том, что его безопасности ничто не угрожает, человечишко самодовольно и злорадно улыбнулся, с презрением пустил в меня дымом из трубки и, еще сильнее растягивая слова, проговорил:
– Ну, ну, полегче на поворотах. Не стоит так зазнаваться.
Это наглое замечание резануло мне ухо, однако на минуту охладило мой пыл. Некоторое время пигмей не сводил с меня лисьих глазок, а затем глумливо продолжал:
– Сегодня утром ты прогнал бродягу.
– Может прогнал, а может и нет, – раздраженно возразил я. – А ты—то почем знаешь?
– Знаю, и все. Не все ли равно, откуда я узнал.
– Отлично! Допустим, что я действительно прогнал бродягу, – ну и что из этого?
– О, ничего, ничего особенного. Но только ты ему солгал.
– Я не лгал! То есть я…
– Нет, ты солгал.
Я почувствовал укол совести. По правде говоря, прежде чем бродяга дошел до конца квартала, она успела кольнуть меня раз сорок. Тем не менее я решил притвориться оскорбленным и заявил:
– Это беспардонная клевета. Я сказал бродяге…
– Постой. Ты хотел солгать еще раз. Я—то знаю, что ты ему сказал. Ты сказал, что кухарка ушла в город и что от завтрака ничего не осталось. Ты солгал дважды. Ты отлично знал, что кухарка стоит за дверью и что в доме полно провизии.
Эта поразительная осведомленность заставила меня замолчать, и я с удивлением подумал, из какого источника этот сопляк мог почерпнуть свои сведения. Разумеется, он мог узнать об этом разговоре от бродяги, но каким чудом он ухитрился проведать, где была кухарка?
Тем временем карлик заговорил снова:
– Как подло и низко ты поступил, когда дня два назад отказался прочитать рукопись той несчастной молодой женщины и высказать свое мнение о литературных достоинствах ее труда. А ведь она проделала такой далекий путь и была преисполнена таких радужных надежд. Но, может быть, этого вовсе и не было?
Я чувствовал себя как последняя собака! Должен признаться, что так было всякий раз, когда я вспоминал об этом случае. Я густо покраснел и сказал:
– Послушай, неужели тебе больше делать нечего, кроме как шататься повсюду и совать нос не в свои дела? Разве эта девица рассказывала тебе о нашем разговоре?
– Неважно, рассказывала она или нет. Важно, что ты совершил гнусный поступок. А потом тебе стало стыдно! Ага, тебе стыдно и сейчас!
Это было сказано с каким—то дьявольским злорадством. Я с жаром возразил:
– Я в самых мягких и деликатных выражениях объяснил этой девице, что не берусь высказывать свое суждение о чьей бы то ни было рукописи, ибо мнение одного человека ровно ничего не стоит. Он может недооценить превосходный труд или переоценить бездарное кропанье и таким образом навязать его читателям. Я сказал ей, что единственным трибуналом, который облечен полномочиями судить литературное произведение, может быть только широкая публика. Поэтому лучше всего с самого начала представить свое творение на суд этого высокого трибунала, ибо в конечном итоге жизнь или смерть всякого произведения все равно зависит от него.

























