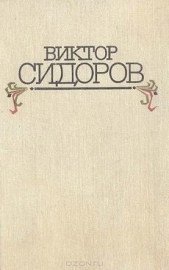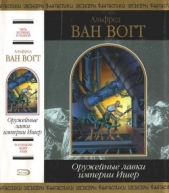Коричные лавки. Санатория под клепсидрой

Коричные лавки. Санатория под клепсидрой читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
ОДИНОЧЕСТВО
С тех пор как у меня появилась возможность выходить в город, я ощущаю значительное облегчение. Но как долго я не покидал своей комнаты! Это были горестные месяцы и годы.
Не могу объяснить, почему ею оказалась она — давняя комната моего детства, крайняя от галереи, уже тогда мало посещаемая, всеми забытая и как бы не имевшая отношения к квартире. Не упомню уже, как я сюда попал. Кажется, была светлая ночь, водянисто-белая безлунная ночь. В сером освещении отчетливо различалась каждая деталь. Постель была расстелена, словно бы кто ее только что покинул, я вслушивался в тишину — не уловлю ли дыхание спящих. Но кому тут было дышать? С тех пор так и живу. Торчу здесь долгие годы и скучаю. Нет чтобы во время запастись провизией! О вы, кто еще может, у кого еще есть на это время, делайте запасы, копите зерно, доброе и сытное сладкое зерно, ибо настанет великая зима, наступят года тощие и голодные и не уродит земля в земле египетской. Увы, я уподобился не старому хомяку, но легкомысленной полевой мыши, жил сегодняшним днем, не заботясь о завтрашнем, уверенный в своем таланте голодателя. Как мышь полагал я: что мне голод? В крайнем случае погрызу что-нибудь деревянное, искрошу зубками в клочки бумагу. Нищий зверек, серая церковная мышь — заштатная позиция книги творения — я умудрюсь прожить ничем. И вот живу ничем в мертвой этой комнате. Мухи давно посдыхали. Прикладываюсь ухом к древесине, не точит ли хоть ее червяк. Гробовая тишина. Только я, бессмертная мышь, одинокий последыш, шуршу в мертвой комнате, бесконечно сную по столу, этажерке, стульям. Шмыгаю, похожий на тетку Теклу, в долгом сером платье до полу, юркий, быстрый и маленький, волоча за собой шуршащий хвостик. Сижу средь бела дня на столе, не шевелясь, как чучело, глаза мои, точно две бусинки, таращатся и блестят. Разве что мордочка едва заметно шевелится, мелко жуя по привычке.
Все, конечно, следует понимать иносказательно. Я пенсионер, а никакая не мышь. Примечательная особенность моего бытования — то, что я паразитирую на метафорах, позволяю легко увлечь себя первому попавшемуся иносказанию. Таким образом вовлекшись, я потом долго образумливаюсь, медленно прихожу в себя.
Как я выгляжу? Иногда я смотрюсь в зеркало. Странно, смешно и горько! Стыдно признаться. Никак не удается увидеть себя анфас, лицом к лицу. Чуть глубже, чуть дальше оказываюсь я в зеркальных глубинах, несколько сбоку, несколько в профиль, задумчивый, стоя и глядя в сторону. Стою этак неподвижно, гляжу в сторону, несколько назад за спину. Наши взгляды теперь не встречаются. Достаточно мне шевельнуться, шевелится и он, но как-то полуобернувшись назад, словно про меня не знает, словно бы ушел за множество зеркал и уже не в состоянии вернуться. Досада теснит мое сердце, когда вижу его, чужого и безучастного. Ведь ты же, хочется мне воскликнуть, был моим абсолютным отражением, столько лет мне сопутствовал, а теперь не узнаешь! Боже! Чужой и отворотившийся куда-то в сторону, стоишь там и, кажется, прислушиваешься к чему-то в глубине, ждешь какого-то слова, но из стеклянной глуби — оттуда, послушный кому-то еще, ожидающий чьих-то приказов.
Сижу за столом, листаю пожелтевшие университетские гектографированные лекции — единственное мое чтение.
Гляжу на выцветшую ветхую занавеску, наблюдаю, как легко отдувает ее от окна холодный воздух. На карнизе можно бы заниматься гимнастикой. Превосходный турник. До чего удобно кувыркаться на нем в бесплодном, столько раз уже использованном воздухе. Почти без усилий возможно сделать ловкое сальто-мортале — хладнокровно, без внутреннего участия, как бы чисто спекулятивно. Когда, касаясь головою потолка, эквилибристически и на кончиках пальцев стоишь на таком турнике, кажется, что на высоте несколько теплее, создается безотчетное ощущение более мягкой атмосферы. С детства люблю вот так глядеть на комнату с птичьей перспективы.
Сижу и слушаю тишину. Комната выбелена известкой. Иногда по белому потолку внезапно пробежит морщинка трещины, иногда шурша отвалится кусочек штукатурки. Надо ли говорить, что комната замурована? Как это? Замурована? Каким же образом из нее выбраться? В том-то и дело: для доброй воли нет неволи, сильному желанию помех не бывает. Надо лишь вообразить дверь, добрую старую дверь, какая была в кухне моего детства, с железной ручкой и щеколдой. Не бывает комнат настолько замурованных, чтобы при наличии старой заветной двери они не размуровались, если достанет сил им ее внушить.
ПОСЛЕДНЕЕ БЕГСТВО ОТЦА
Было это в поздний и запропастившийся период полнейшего упадка, в период окончательной ликвидации наших дел. Давно уже сняли вывеску, висевшую над входом в лавку. При полуопущенных жалюзи мать тайком распродавала остатки. Аделя уехала в Америку. Рассказывали, что корабль, на котором она плыла, затонул, и все пассажиры погибли. Мы никогда не проверяли этого слуха, след девушки потерялся, больше мы о ней не слыхали. Наступила новая эпоха, пустая, трезвая и безрадостная — белая как бумага. Теперешняя прислуга, Геня, анемичная, бледная и бескостная, мягко слонялась по комнатам. Довольно было погладить ее по спине, чтобы она, потягиваясь, заизвивалась, как змея, и замурлыкала, как кошка. У нее была мутно-белая кожа, не розовевшая даже с изнанки века эмалевых глаз. По рассеянности она, случалось, иногда готовила размазню из старых фактур и квитанционных книжек — тошнотворную и несъедобную.
К тому времени отец мой уже вовсе умер. Умирал он многократно, но не окончательно, всегда с определенными оговорками, заставлявшими пересмотреть собственно событие, что имело и положительную сторону. Переживая свою смерть, можно сказать, в рассрочку, отец как бы осваивал нас с фактом своего ухода. Мы сделались безразличны к его повторным возникновениям, всякий раз все более редуцированным, все более жалким. Облик уже отсутствовавшего, словно бы расточился по комнате, в которой отец жил, разошелся, создавая в неких точках удивительные сгустки неправдоподобно выразительных подобий. Обои местами имитировали судороги отцова тика, арабески принимали форму горестной анатомии его смеха, разложенной на симметричные сочленения, точно окаменелый оттиск трилобита. Какое-то время мы стороной обходили его подбитую хорем шубу. Шуба дышала. Переполох зверьков, впившихся и вшитых друг в друга, пробегал по ней бессильными корчами и пропадал в фалдах меховых пластин. Приблизив ухо, можно было услышать мелодичное мурчанье согласного их сна. В таковой форме, добротно выдубленной, с легким духом хорьков, убийства и ночной течки, он мог бы продержаться годы. Но и тут он не просуществовал долго.
Однажды мать вернулась из города с озабоченным лицом. — Смотри, Иосиф, — сказала она, — какой случай. Я поймала его на лестнице; он прыгал со ступеньки на ступеньку. — И приподняла платок над чем-то, что находилось в тарелке. Я тотчас его узнал. Сходство было бесспорно, хотя сейчас он был то ли раком, то ли большим скорпионом. Мы подтвердили это друг другу взглядами, глубоко пораженные неоспоримостью подобия, которое при всех изменениях и метаморфозах прямо-таки разительно бросалось в глаза. — Он жив? — спросил я. — Разумеется, я его еле-еле держу, — сказала мать, — может, пустить его на пол? — Она поставила тарелку на пол, и мы, склонившись, стали его дотошно разглядывать. Вдавленный меж многих своих кривых ног, он тихонько ими шевелил. Слегка приподнятые клешни и усы казались настороженными. Я наклонил тарелку, и отец в некоторой нерешительности осторожно переместился на пол, но, оказавшись на плоской поверхности, вдруг побежал всеми своими многими ногами, стуча жесткими костяшками членистоногого. Я загородил ему дорогу. Коснувшись шевелящимися усами преграды, он заколебался, после чего поднял клешни и свернул в сторону. Мы дали ему бежать в выбранном направлении. Мебели, где можно было найти убежище, на его пути не оказалось. Спеша и волнисто содрогаясь на своих многочисленных ногах, он достиг стены, и мы моргнуть не успели, как он, не промедлив, легко взбежал на нее всею арматурою конечностей. Я вздрогнул, с инстинктивным отвращением наблюдая многочленистое передвижение, с прихлопываньем осуществляемое на бумажных обоях. Отец между тем достиг маленького вмурованного кухонного шкафика, мгновение изучал клешнями его нутро, перегнулся через край, после чего целиком забрался внутрь.